Шемячич, Василий Иванович, князь Северский
Василий Иванович Шемячич, младший, четвертый сын Рыльского и Новгород-Северского князя Ивана Дмитриевича Шемякина († между 1471 и 1485) и неизвестной; внук Великого князя Дмитрия Юрьевича Шемяки, князь Северский, последний из удельных князей, умер в московской темнице в 1529-м году.
От Рюрика колено XIX.
Время и место рождения его неизвестны.
В мае 1454 г. его отец уезжает из Великого Новгорода во Псков, а далее в Литву, где получает в кормление от польского короля Казимира IV (из Ягеллонов; † 7 июня 1492) гг. Рыльск и Новгород-Северский. После смерти отца Василий наследует его вотчину.
Из времени литовского подданства известен только один поход Шемячича в 1497-м году на помощь королю польскому Альбрехту против Стефана Молдавского, в сентябре 1497 г. Василий вместе с князем Семеном Ивановичем Стародубским участвует в военной кампании польского короля Яна I Ольбрахта (из Ягеллонов; † 17 июня 1501) и Великого князя литовского Александра († 19 августа 1506) против молдавского господаря Стефана III Великого († 2 июля 1504).
Наиболее важными моментами его жизни следует считать участие в русско-литовских интригах того времени.
Значительная роль, которую сыграл Шемячич вместе с другими пограничными князьями в истории отношений литовско-русских в конце 15-го и первой половине 16-го столетия, заставляет коснуться сущности этих отношений. Получая от Сигизмунда земли, бежавшие из-под московского владычества удельные князья теряли свою самостоятельность и делались служебными; они давали присягу: "после смерти нам и нашим детям служить тому, кто будет на литовском престоле; если после нас не будет потомков, то нашей земле от Великих княжеств литовских не отступаться".
В числе условий, разрешавших князей от присяги были пункты, дававшие возможность служебным князьям весьма часто менять своего господина, именно: отказ великого князя защищать служебных князей от обидчика, неоказание чести и милости, — все это разрешало от присяги.
Такая формула присяги вела к тому, что, то литовское, то московское правительство принимало к себе перебежчиков с землями, и этим вызывались постоянные ссоры.
К концу XV-го столетия закончилось присоединение северо-восточных уделов к Москве, и Иоанн III обратил внимание на запад, желая возвратить русские земли, присоединенные к Литве в XIV-м столетии во время княжеских междоусобий. Пограничные князья могли оказать ему значительную помощь и потому, задумав войну, Иоанн послал к ним тайные предложения перейти с владениями на его сторону и сражаться вместе против Литвы, за что предлагал им в награду свои города и все завоеванные литовские земли, обещая не вступаться в последние, а только "беречь" их. Такое тайное послание получил и В. И. Шемячич.
В апреле 1500 г. князь Василий обращается к Великому князю Ивану Васильевичу вместе с князем Семеном Ивановичем Стародубским, прося взять их на службу со своими вотчинами. Из-за гонений, поднятых литовскими властями в Малороссии на Православную веру («велика нужа о греческом законѣ"), жалуется ему на Великого князя литовского Александра, который не исполняет ранее обещанных договоренностей. Боярин и наместник новгородский Яков Захарьевич Кошкин-Захарьин († 11 марта 1511), посланный Великим князем Иваном III, в июне того же года на р. Контовт (не локализована) приводит Василия Ивановича к крестному целованию.
Опасение его, что великий князь Московский может вспомнить обиды, причиненные его дедом, Димитрием Шемякою, Василию II, были предупреждены Иоанном III, давшим Шемячичу опасную грамоту: "Что какое лихо учинилось от твоего деда, князя Димитрия Шемяки, нашему отцу, великому князю, Василию Васильевичу, то мы тебе даем опасную грамоту, что нам за то на тебя нелюбки не держать".
Переходя на сторону Москвы, Северские князья делались владетельными и приобретали сильного защитника в лице Московского князя.
В официальных переговорах Москвы с Литвою переход Северских князей Шемячича и Можайского в московское подданство мотивировался гонениями за православную веру, которые они терпели в Литве. По уговору Московский князь послал во владения Шемячича свои войска, Шемячич явился к ним, и уже после этого Иоанн отправил сказать великому князю Литовскому, чтобы он не вступался более в отчину Шемячича, так как последний переходить на московскую службу.
Литовцы не хотели отказаться от отчин князей, перешедших на сторону Москвы, и вели долгие переговоры, не признавая переход законным. Про Шемячича и Можайского они говорили: "Отцы этих князей пришли в Литву, сделав над самим Иваном Васильевичем и его отцом известно какую измену; их в Литве приняли и дали им отчины на прожиток, а они, по привычке, заимствованной от своих отцов-изменников, изменили теперь и Литовскому государю, да по той же привычке наверно сделают то же и со своим новым государем".
Не умея удержать пограничных князей, Литовский великий князь не терял надежды вернуть их себе, хотя и называл их изменниками. К ним подсылались литовские агенты, на них действовали и посредством Крымского хана, прося его передать Шемячичу, что если он перейдет в литовскую службу, то король даст ему еще более того, что у него есть теперь, особенно по завоевании Москвы. Московские князья хорошо знали литовские интриги и удерживали князей различными средствами: окружили их шпионами, старались возбудить их патриотизм, поощряли их вражду к пограничным литовским князьям и поддерживали их войны.
Князь Северский Шемячич оказал большое содействие Москве в дальнейших завоеваниях литовских земель.
В конце лета того же (1500 г.) года вместе с Семеном Стародубским и московскими воеводами Василий совершает поход в Литовскую землю. Берет 6 августа г. Путивль, а его наместника, князя Богдана Федоровича Глинского (из Мансур-Киятовичей; † в 1512), с княгиней и со всеми путивльцами уводит в плен. Воюет гг. Дорогобуж, Торопец и крепость Залидов. К ранее имеющимся землям Василий получает от Великого князя Ивана Ш гг. Путивль, Радогощ и Северскую землю.
Со времени присяги Московскому государю в 1500-м году на берегу реки Кондова, где он со своим войском встретил отправленные к нему московские дружины, этот князь почти беспрерывно воюет против Литвы — то вместе с московскими войсками, то самостоятельно делая набеги на своих литовских соседей.
14-го ноября 1500-го года новые подданные Москвы, князья Северские Шемячич и Можайский вместе с боярами князем Ростовским и Семеном Воронцовым одержали победу над литовским князем Михаилом Ижеславским и воеводою Евстафием Дашковичем под Мстиславлем, положив тысяч семь неприятелей на месте.
В ноябре 1501 г. вместе с московскими воеводами совершает поход в литовскую землю к г. Мстиславлю
В июле 1502-го года Шемячич опять идет против Литвы с многочисленною ратью Дмитрия Ивановича Жилки с воеводой передового полка, посланной Иоанном к Смоленску под начальством его сына Димитрия. Безуспешно осаждает Смоленск и «отидоша прочь на третий день по Воздвижениеве дни (непереходящее празднование 14 сентября; снятие осады 17 сентября -Авт.)» «понеже крѣпокъ бѣ».. В декабре того же года Шемячич и Семен Можайский опять ходили на Литву, не завоевали городов, но везде распространили ужас жестокими опустошениями.
Во время перемирия с 1503-го года до 1507-го года пограничные князья, поощряемые московским правительством, желавшим войны, не переставали беспокоить Литву набегами. Когда при Василии III война с Литвою возобновилась, Шемячичу велено было идти на помощь Глинскому, перешедшему на сторону Василия III и ожесточенно мстившему королю Сигизмунду за личные обиды.
Войска Глинского и Шемячича стояли две недели под Минском в ожидании помощи от великого князя, но получили приказание идти осаждать Оршу. По дороге они взяли Друцк и под Оршею соединились с князем Щенею, пришедшим с новгородскою ратью. Ссоры московских воевод помешали взятию Орши, и с приближением короля русские войска отступили.
Летом 1508 г. Василий идет в поход на помощь князю Михаилу Львовичу Глинскому (из Мансур-Киятовичей; † 15 сентября 1534), воюет литовские земли вокруг гг. Минска и Слуцка. Осенью того же года Василий упоминается в числе служилых князей, написанных Великим князем Василием Ивановичем, в свою сторону по мирному договору (от 8 октября) с Великим князем литовским и польским кор. Сигизмундом I Старым (из Ягеллонов; † 1 апр. 1548).
Поручив Шемячичу и Стародубскому оберегать окраины, Василий III заключил с королем Сигизмундом в 1508-м году мир, по которому утверждались за Россией её завоевание и земли перебежчиков.
В 1511-м году снова началась война, и Северским князьям приходилось бороться не только с Литвою, но и с Татарами нападавшими по соглашению с королем на южные русские пределы.
В 1518-м году некоторые отряды крымских татар напали на Путивльские земли, но были разбиты Шемячичем, за что последний получил в награду от великого князя Путивль. Не взирая на значительные услуги, оказанные Северскими князьями Москве, они не пользовались доверием великого князя, помнившего их измены.
Не давая Северским князьям Шемячичу и Можайскому вести междоусобные войны, князь Московский поощрял их взаимные доносы, погубившие обоих этих князей. Московское правительство, имея целью объединение русского государства, пользовалось всеми способами для уничтожение уделов. Шемячич и Можайский были последними удельными князьями. Их взаимная вражда помогла великому князю присоединить их владения к Москве.
Еще при Иоанне III, в 1511 г. с ним конфликтует его сосед, князь Василий Семенович Мних Стародубский, доносил на Василия Шемячича, в нем было написано, что Шемячич «уряжается» перейти на службу к королю Сигизмунду I., после смерти отца, Семена Ивановича, его сын его Василий Семенович точно также интриговал против Шемячича. Последний несколько раз просил позволение у великого князя приехать в Москву оправдаться, но ему отвечали, что не следует этого делать "ради Государского и Земского дела". В 1510-м году Василий Семенович стал хвалиться, что по его оговору Государь хочет положить опалу на Шемячича. Узнав про клевету, Шемячич просил великого князя прислать ему опасную грамоту, чтобы можно было без боязни приехать в Москву оправдаться. Опасная грамота была дана, и Василий Иванович при этом объявил Шемячичу, что, как он жаловал обоих князей, так и теперь жалует и нелюбви к ним не имеет.
Позднее при разбирательстве этого дела обвинения не подтвердились и Шемячич снова был отпущен в свои владение.
В 1512/13 гг. Василий обороняет русские «украины» на юге. Доходит до Киева и сжигает посады города.
Князь Василий Семенович тем не менее продолжал свои доносы и в 1517-м году вместе с князем Пронским прислал в Москву двух людей, свидетелей сношений Шемячича с Литвою. Один из них был пленным в Литве и слышал там, что у Альбрехта Немировича, киевского наместника, был гонец от князя Василия Шемячича, который предлагал: "как король помирится с царевичами, и Альбрехт бы с царевичами шел под его город, и он (Шемячич) хочет королю служить и с городами". Другой, человек Пронского, служивший, когда то Василию Шемячичу и убежавший в Стародуб, говорил: "Шемячич ссылается с королем да с Альбрехтом Немировичем, да и из Литвы у него люди были от короля". Великий князь послал к Шемячичу Шигону Поджогина и своего дьяка Ивана Телешова объявить все о доносах и сказать потом: "Тебе хорошо ведомо, что и наперед того к нам на тебя такие безлепичные речи прихаживали, и мы им не верили, а тебя жаловали: таким речам мы и теперь не верим и хотим тебя жаловать. Ты теперь ехал бы к нам, и мы тебя укрепим в том, чтобы тебе быть без мысли в нашем жаловании, и боярам нашим велим тебе также крепость учинить; а чтобы тебе ехать без всякого опаса, то наши посланные в том тебе правду дадут". Шемячич же, еще не дождавшись этого посольства, а только узнавши о доносе, отправил к Государю своего человека со следующими словами: "Государь, брать мой, князь Василий Семенович, прислал к тебе и сам ныне говорит: "Либо я этим своего брата, Василия Ивановича, уморю, либо сам от Государя буду под гневом; лучше чему-нибудь одному быть, а не оставаться так". Ты-б, Государь, смиловался, пожаловал, велел мне, своему холопу, у себя быть, бить челом о том, чтобы стать мне перед тобою, Государем, очи на очи с теми, кого брать мой, князь Василий Семенович, к тебе, Государю, на меня прислал с нелепицами. Обыщешь, Государь, мою вину, то волен Бог да ты, Государь мой, голова моя готова перед Богом, да перед тобою; а не обыщешь, Господарь, моей вины, и ты-б смиловался, пожаловал, от брата моего оборонил, как тебе, Господарю, Бог положить по сердцу, потому что брат мой прежде этого сколько раз меня обговаривал тебе, Господарю, такими нелепицами, желая меня у тебя, Господаря, уморить, чтобы я не был тебе слугою".
Искушение со стороны Литвы Северским князьям без сомнения были, что видно из следующих слов того же письма Шемячича: "да и то тебе, Господарю, известно же, сколько прежде ко мне из Литвы присылок ни бывало, я от отца твоего великого князя и от тебя, Господаря, ничего не утаивал, а если и в самом деле кто слышал такую нелепицу про меня в Литве, так, Государь, там вельми рады, чтобы нас, твоих холопей, на Украине не было". На это письмо Василий III отправил Шемячичу опасную грамоту для приезда в Москву, по посланным все-таки наказал: "заезжайте к князю Василию Семеновичу, скажите ему речь о бережении, да похвальную речь ему скажите".
В ноябре 1517 г. Василий присылает к Великому князю Василию Ивановичу своего человека Михаила Янова с известием, что он разбил «Божиею милостью и государьскимъ счастьемь» приходивших на Путивльские места крымских татар.
14 августа 1518 г. Василий приезжает в Москву в связи с новым наговором на него и для разбора дела об измене. Великий князь временно снимает с него все обвинения, и в тот же день, на Успение обедал у митрополита вместе с великим князем.
И на этот раз Шемячич оправдался. Великий князь велел ему сказать: "Мы у слуги своего Василия на тебя речей никаких не слушали. Мы, как прежде нелепым речам не потакали, так и теперь не потакаем, а тебя, слугу своего, как прежде, так и теперь жалуем, и впредь жаловать хотим; обыскали мы, что речи на тебя нелепыя, и мы им теперь не верим. Человек, который говорил на тебя нелепыя речи, перед тобою головой". Шемячич просил выдать ему и другого обносителя, человека князя Василия, но великий князь сказал, что его выдать нельзя потому, что "этот человек был в имении в Литве и слышал о тебе речи в Литве, так как же ему было нам не сказать. Нам этого человека выдать тебе нельзя". Шемячич был отпущен с честью с свое княжество, где спокойно властвовал еще пять лет. Не более как через месяц после приезда его в Москву в официальных бумагах было записано, что Василия Семеновича Можайского не стало, и его владение вполне принадлежит московскому государю.
В конце 1522 г. новопоставленный митрополит Даниил († 22 мая 1547) присылает к нему охранную грамоту, гарантирует Василию по приезде в Москву полную неприкосновенность в связи с подозрениями в измене.
18 апреля 1523 г. Василий Шемячич приезжает в Москву. Первоначально Великий князь Василий Иванович принимает его с почетом (был им ласково принят), но затем, 12 (по другим данным, 11) мая, приказывает схватить и посадить в темницу, обвинен снова в сношениях с Литвою, а княгиню его привести в Москву, причем отнять у нее всех боярынь. 22-го и 25-го августа на княжеском дворе в "брусяной" избе бояре, высланные князем, делали ему допрос.
В ночь с 9 на 10 августа 1529 г. в «8 часъ нощы (4 часа утра мест. врем. 10 авг. - Авт.)» по приказу Великого князя Василия Ивановича «тяжкими оковами» умерщвлен в Набережной палате (в Московском Кремле не сохранилась).
Шел слух, что причиною заключение Шемячича было его письмо к киевскому наместнику, где он предлагал службу свою Королю Сигизмунду. Сомневались в истине этого обвинения и рассказывали, что тогда ходил по улицам Москвы юродивый с метлою и кричал: "время очистить государство от последнего сора", т. е. избавить великого князя от последнего удельного князя ".
Заступался за Шемячича и игумен Троицкий Порфирий.
Воспользовавшись приездом великого князя в Троицкий монастырь на храмовой праздник, Порфирий смело сказал ему: "если ты приехал сюда в храм Безначальной Троицы просить милости за грехи свои, будь сам милосерд над теми, которых гонишь ты безвинно; а если ты, стыдясь нас, станешь уверять, что они виноваты перед тобою, то отпусти по Христову Слову какие-нибудь малые динарии, если сам желаешь получить от Христа прощение многих талантов". За это Порфирий был изгнан из монастыря и посажен в тюрьму в оковах. Через некоторое время его выпустили, но не возвратили сана игумена. Митрополит же одобрял поступок великого князя и говорил, что "Бог избавил Государя от запазушного врага", совсем забывая, по словам боярина Берсен Беклемишева, "что сам писал к Шемячичу грамоту и приложил к ней свою руку и печать, и взял его на образ Пречистые и Чудотворцев, да на свою душу".
Место погребение его тела неизвестно.
Супруга Василия, Евфимия (в иночестве), с дочерьми Евфросинией (в иночестве) и Марией (в иночестве) были с апреля 1534 г. монахинями в одном из монастырей Каргополя, а позднее в Покровском Суздальском Девичьем мон-ре на р. Каменки (правый приток Нерли), где позднее умерли и там же были погребены в соборной церкви.
Сын Иван, по прозвищу Севрюк, был иноком в Троице-Сергиевом мон-ре; † 5 ноября 1560 г.
Если у Вас есть изображение или дополняющая информация к статье, пришлите пожалуйста.
Можно с помощью комментариев, персональных сообщений администратору или автору статьи!
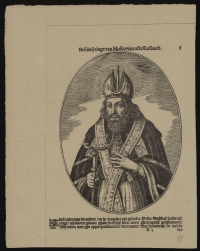

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.