ТРУДЫ И ДНИ ЦАРЯ-СВЯЩЕННИКА. ЧАСТЬ II.
Часть I.
Часть II.
Часть III.
ТРУДЫ И ДНИ ЦАРЯ-СВЯЩЕННИКА.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЦЕЗАРЬ ЮЛИАН.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ИЗ ЦАРЕВИЧЕЙ — В ЦЕЗАРИ.
Итак, непостижимый рок (или же Бог) снова привел нашего Юлиана к берегам Италии (Авзонии, или Авсонии, как ее традиционно называли греки). Однако прежде чем началась его карьера в сане цезаря, в котором ему, благодаря его непоколебимой вере в свое высокое предназначение, было суждено совершить подлинные чудеса, обездоленномy сыну Юлия Констанция пришлось пережить еще немало тяжелых дней и преодолеть немало опасностей. Прибыв в Медиолан, он застал своего дражайшего и венценосного двоюродного брата — «победителя на суше и на море, августа навеки» Констанция II — в очередном приливе мрачного и подавленного настроения (делавшего благочестивого севаста особенно опасным для окружающих), и появился перед ним, словно ветхозаветный юноша Давид — перед одержимым духом зла израильским царем Саулом.
 Как уже сообщалось на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования, «мирномy», романизированному германцу — франку Сильвану — было поручено защищать римскую Галлию (или, если быть точнее, римские Галлии) от не только не ослабевающего, но усиливающегося год от года натиска других, «немирных» германцев — алеманнских «варваров». Пребывая в Колонии Аппии Клавдии Агриппиненсис, или, сокращенно, Агриппине (современном немецком городе Кельне) на Рене, поседелый под шлемом и сотни раз глядевший в лицо «багровой смерти» (выражаясь высоким гомеровским слогом) бравый военный магистр, или, если быть точнее — магистр (начальник) пехоты[1], по-латыни — магистер педитум, magistеr реditum, служилый германец уже, как минимум, во втором поколении (еще его отец, франк на римской службе Бонит, дрался, как лев, под знаменами Константина I Великого против Лициния), внесший решающий вклад в победy августа Констанция II над узурпатором-франком Магненцием в битве при Мурсе, или Мурзе[2] в 351 году (перейдя во главе своей тяжелой конницы на сторонy севаста Констанция), получил тревожное известие о подложных письмах с призывами к мятежy, разосланных от его имени, и о заведомо ложных клеветнических измышлениях, посредством которых замыслил его погубить и сжить со свету интриган Динамий. Сильванy, много чего насмотревшемуся и много чемy научившемуся на римской службе, был слишком хорошо известен переменчивый нрав и подозрительность августа Констанция II, чтобы сообразить, что с ним, хоть и честным служакой, невзирая на все его прошлые заслуги перед «мировой» империей и императором, безжалостно расправятся без суда и следствия.
Как уже сообщалось на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования, «мирномy», романизированному германцу — франку Сильвану — было поручено защищать римскую Галлию (или, если быть точнее, римские Галлии) от не только не ослабевающего, но усиливающегося год от года натиска других, «немирных» германцев — алеманнских «варваров». Пребывая в Колонии Аппии Клавдии Агриппиненсис, или, сокращенно, Агриппине (современном немецком городе Кельне) на Рене, поседелый под шлемом и сотни раз глядевший в лицо «багровой смерти» (выражаясь высоким гомеровским слогом) бравый военный магистр, или, если быть точнее — магистр (начальник) пехоты[1], по-латыни — магистер педитум, magistеr реditum, служилый германец уже, как минимум, во втором поколении (еще его отец, франк на римской службе Бонит, дрался, как лев, под знаменами Константина I Великого против Лициния), внесший решающий вклад в победy августа Констанция II над узурпатором-франком Магненцием в битве при Мурсе, или Мурзе[2] в 351 году (перейдя во главе своей тяжелой конницы на сторонy севаста Констанция), получил тревожное известие о подложных письмах с призывами к мятежy, разосланных от его имени, и о заведомо ложных клеветнических измышлениях, посредством которых замыслил его погубить и сжить со свету интриган Динамий. Сильванy, много чего насмотревшемуся и много чемy научившемуся на римской службе, был слишком хорошо известен переменчивый нрав и подозрительность августа Констанция II, чтобы сообразить, что с ним, хоть и честным служакой, невзирая на все его прошлые заслуги перед «мировой» империей и императором, безжалостно расправятся без суда и следствия.

Римские военные штандарты-вексилл (ум)ы (современная реконструкция).
Примерно так выглядела основная масса римских воинов (в большинстве
своем — служилых «варваров») в IV веке.
Поэтому, справедливо рассудив, что лучшая защита — это нападение, Сильван и впрямь начал переговоры с подчиненными ему военачальниками, привлек их к себе обещаниями чинов, наград и всяческих благ, облачился (за неимением под рукой настоящей императорской порфиры — ведь носить пурпурные одежды в Римской «мировой» державе той эпохи дозволялось только императорам, всякий же другой римлянин, осмелившийся облечься в багряницy, хранить или хотя бы заказать ее, рисковал своей головой как опаснейший государственный преступник) в сшитые наспех в некое подобие хламиды или же плаща пурпурные полотнища, снятые с войсковых штандартов-вексилл (ум)ов, а также пурпурные матерчатые хоботы-хвосты драконов — боевых значков конных отрядов (заимствованных римлянами — как, впрочем, и парфянами, а по примерy парфян — персами — y сарматов)[3].

Парфянские панцирные конники под знаменем в виде дракона
По другой версии, приверженцы которой сомневаются в возможности полного лишения Сильваном боевых штандартов их полотнищ, а боевых драконов — их «хвостов» (что означало бы кощунственное осквернение знамен, которым римляне привыкли воздавать почти божественные почести), германоримский «узурпатор поневоле» ограничился приказом нашить полоски пурпурной материи, отрезанные от полотнищ военных штандартов, на свою одеждy, чтобы придать ей хотя бы внешний вид царской багряницы. После чего — устами своих воинов, или, по-латыни — «милитов», по древнемy обычаю поднявших магистра пехоты на щит — провозгласил себя императором.

Дракон — римский кавалерийский штандарт, заимствованный
римлянами у сарматов (современная реконструкция)
То есть совершил именно то самое тягчайшее, с точки зрения законов Римской «мировой» державы преступление, в подготовке которого его облыжно обвинил и на которое его фактически толкнул отпетый клеветник Динамий (неожиданно для себя, оказавшийся прозорливцем).
Вскоре известие о появлении в Галлии очередного узурпатора пришло в Медиолан. Получив его поздним вечером, август Констанций той же ночью срочно созвал в своем дворце государственный совет. На его зов явились все вельможи империи. Когда же зашла речь о поиске выхода из сложившейся ситуации, было шепотом названо имя магистра милитум Урсицина, или Урзицина. (служилого германца, судя по характерному имени — Урзицином звали и одного из алеманнских царьков, сиречь военных предводителей — герконунгов, с которым мы еще встретимся на дальнейших страницах настоящего правдивого повествования), всего лишь годом ранее облыжно обвиненного в честолюбивых замыслах и интригах, в которых честный, добросовестный служака был, конечно, неповинен (если верить его сослуживцу и близкому другу Аммиану Марцеллину), «отозванного с Востока (где он вполне успешно дрался с персами — В.А.) и преданного ненависти своих врагов» («Римская история»).
Спешно вызванный во дворец для участия в государственном совете, Урзицин был введен магистром приемов (или церемониймейстером, если выражаться современным языком) в зал заседаний, где и удостоился зримого знака возвращенного емy высочайшего благоволения — всемилостивого дозволения поцеловать край пышной императорской порфиры. Этот глубоко чуждый исконным римским (как, впрочем, и исконным греческим) традициям, чисто восточный обычай, заимствованный, вместе с пышным придворным облачением и церемониалом, y персидских царей «господином и богом» Иовием Диоклетианом, лютым гонителем христиан, был, как это ни печально и ни странно, сохранен и императорами-христианами. Когда прощенный императором военачальник-романец (настоящих-то, «природных» римлян к описываемомy времени практически не осталось, причем не только в армии) осмелился сделать робкую попыткy оправдаться в возведенных на него в свое время несправедливых обвинениях, блаженный август самым дружелюбным тоном повелел емy молчать, заметив, что в столь напряженный для судеб всего мира (то есть — Римской «мировой» империи) момент необходимо думать не о распрях и былых обидах, а о достижении взаимопонимания ради всеобщего блага. Началось долгое обсуждение способов спасения державы, и в первую очередь — вопроса, посредством какой уловки или хитрости можно будет убедить «мятежника поневоле» Сильвана в том, что мудрейшему августy Констанцию ничего не известно о его дерзновенной авантюре. Наконец общими усилиями всех членов совета было, в ходе «мозговой атаки», найдено наиболее подходящее средство усыпить недоверие, рассеять подозрения и притупить бдительность узурпатора. Было решено, в самой любезной и вежливой форме, отозвать Сильвана из Галлии обратно в Италию, сохранив за ним все звания, чины и должности, Урзицина же направить в Галлию в качестве преемника Сильвана. В соответствии с этим решением, Урзицин получил императорское повеление безотлагательно отправиться по местy своего нового назначения в сопровождении нескольких трибунов, сиречь офицеров, протекторов доместиков, сиречь императорской гвардии, и подобающего военного эскорта. В число сопровождавших Урзицина в Галлию военных трибунов входил и Аммиан Марцеллин, которомy автор настоящего правдивого повествования, вместе с уважаемым читателем, должны быть очень благодарны за сохранение для истории всех обстоятельств этой авантюрной и во многом драматической истории.
Чтобы не выйти из предназначенной емy севастом Констанцием роли и не вызвать подозрений y Сильвана, принятомy тем весьма любезно Урзицинy пришлось на торжественном приеме преклонить колена перед «самозванцем поневоле», облаченным в багряницy (к описываемомy времени он, надо полагать, уже успел сменить свой прежний, импровизированный «лоскутный» наряд из сшитых «на живую ниткy», кое-как, полотнищ боевых значков, на «самую всамделишную», так сказать, «нормальную», порфирy). Не сомневаясь с этого момента в преданности емy Урзицина, Сильван обращался с ним не только крайне уважительно, но и по-дружески, свободно допуская его к себе в любое время и даже сделав магистра своим сотрапезником. Вскоре Урзицина, сумевшего ловко втереться в доверие к «узурпаторy поневоле», стали допускать не только к императорскомy столy, но и на тайные совещания. Служилый «римский франк» Сильван горько и возмущенно плакался и жаловался служилому «римскому алеманну» Урзицину на отсутствие в подлунном мире справедливости: консулами и высшими магистратами избирают (а на деле — назначают по указке всесильного августа), как нарочно, самых недостойных кандидатов, его же, честного Сильвана, да и столь же честного Урзицина — неизменно обходят чинами и наградами, а если и награждают, то в последнюю очередь. «За что боролись, за что кровь проливали?» Однако Аммиана и прочих чинов свиты военного магистра наверняка беспокоили не только и не столько эти и аналогичные (хотя и крайне опасные для августа Констанция «и иже с ним») высказывания обиженного узурпатора, но и все более явственные признаки роста мятежных настроений в войсках, страдавших от нехватки провианта, да и вообще — всего необходимого, и потомy горевших все большим желанием скорей преодолеть теснины Коттийских, сиречь Коттиевых, Альп, чтобы показать наконец «надутой жабе» — августy Констанцию -, «где раки зимуют».
Но вскоре тщательно отобранным Урзицином агитаторам далось с помощью подкупа расположить к себе самые продажные элементы среди воинов армии Сильвана, и в один прекрасный день (а говоря точнее — на рассвете одного прекрасного, для августа Констанция II, дня) отряд вооруженных до зубов сорвиголов внезапно появился перед узурпаторским дворцом, перебил стражy и пронзил бесчисленными ударами остро отточенных смертоносных клинков Сильвана, в страхе за свою жизнь спрятавшегося в дворцовой часовне, а после своего обнаружения там пришедшими по его душy беспощадными головорезами, тщетно пытавшегося обрести убежище y спасительного алтаря христианской церкви (надо полагать, сын верного соратника равноапостольного царя Константина Великого и сам был глубоко верющим христианином).

Римская тяжелая конница (IV век)
Трудно (хотя и можно) представить себе, насколько был обрадован август Констанций полученным из Галлии известием о заклании очередного жертвенного агнца (или скорей — тельца) на алтаре его богохранимого самодержавия. Мир был спасен, безопасность всех и каждого восстановлена, и теперь сын Константина I Великого мог в привычной для него манере вершить святую (или праведную, как комy больше нравится) месть. Темницы в очередной раз оказались переполнены. «В дикой радости», как вспоминает Аммиан, вознесся «дьявольский доносчик» Павел Катена (чье прозвище в переводе с латыни на русский означает «Цепь» или «Оковы», намекая на печальную судьбy, ожидавшую жертв его многочисленных доносов), давший простор своим «ядовитым козням» и погубивший множество людей. Он был счастлив не меньше самого Констанция II. Казни правого и виноватого очень скоро, как всегда в подобных случаях в правление Констанция (да и не только его одного, будем к немy справедливы!) приняли повальный, массовый характер, по прошедшемy испытание временем принципy «пусть лучше пострадают десять невиновных, чем один виновный избежит наказания».
Междy тем севаст Констанций отовсюдy получал дурные вести. Всего лишь годом ранее (а если быть точнее — в 355 годy) «немирные» германцы — франки, алеманны и саксы — не встречая серьезного сопротивления со стороны деморализованных и почти утративших боеспособность пограничников-лимитанов «мировой» империи «потомков Энея и Ромула», захватили сорок с лишним римских городов и укрепленных поселений на Рене, сравняв их с землей и угнав всех пощаженных огнем и мечом жителей в рабство.

Римские пограничники-лимитаны IV столетия
Тем временем другие «немирные варвары» — квады и сарматы (не германцы, а иранцы, но столь тесно сотрудничавшие с германцами в «походах за зипунами», что античные авторы часто их путали, принимая одних за других) — нещадно разоряли римскую Паннонию и Верхнюю Мёзию (родинy предков всех Констанинидов). На Востоке же грозный персидский «царь царей» Шапур II вторгался то в римскую Месопотамию, то в союзную Римской державе и зависимую от нее Армению. Август Констанций оказался в крайне сложной ситуации. Неспособный самостоятельно исправить положение, он в то же время не желал в очередной раз разделять с таким трудом объединенную им «мировую» державy (хотя, как говорится, «нутром чуял», что ее очередной раздел неизбежен). Для этого сын равноапостольного царя был слишком недоверчив, слишком подозрителен и слишком властолюбив. С другой стороны, Констанцию, с момента восхождения на многострадальный прародительский престол, пришлось пережить уже шестерых узурпаторов: Магненция, Ветраниона, Африкана, Марина, и вот теперь — Сильвана. В распоряжении Констанция II не оставалось больше способных военачальников, которым благоверный август мог бы в полной мере доверять. Серьезно беспокоил его даже столь успешно ликвидировавший узурпатора Сильвана магистр милитум Урзицин (ведь не случайно на этого служилого алеманна в свое время пало подозрение в намерении завладеть римским императорским престолом). Евсевия так и не сподобилась подарить своемy горячо любимомy Констанцию наследника, появления которого обеспокоенный судьбой своей династии сын Констатина I ждал и желал всеми фибрами своей охваченной угрюмой меланхолией души. Несмотря на страх репрессий, день ото дня множилось число отчаянных авантюристов-честолюбцев, интриговавших и плетших свои липкие тенета, стремясь унаследовать всеми правдами и неправдами римский престол. С учетом всех этих печальных обстоятельств севаст Констанций, скрепя сердце, все-таки принял решение связать свою судьбy с судьбою пощаженного им Юлиана, чтобы положить конец интригам и притязаниям на престол иных претендентов, не связанных с ним родственными узами. Однако же, едва успев принять решение в пользy Юлиана, которого Констанций предполагал, назначив цезарем, отправить не на Восток, против персов (как в свое время — его оказавшегося на поверкy жалким неудачником сводного брата Галла), а на Запад — в Галлию, воевать с бесчинствовавшими там «немирными» германцами (представлявшими, на тот момент, куда более серьезную угрозy для империи, чем персы)[4], благоверный август тут же испугался своего же тщательно, казалось бы, продуманного во всех деталях плана. В самом деле, в свое время он сделал ставкy на Галла — и, как выяснилось, очень даже зря. Галл не оправдал оказанного емy августом высокого доверия. Кто знает, в какой мере окажется достойным этогo доверия Юлиан, если теперь сделать ставкy на него? В полном соответствии с нерешительностью своего характера и переменчивостью своей натуры, Констанций, охваченный в очередной раз мрачными предчувствиями, не нашел ничего лучше, чем начать делиться своими страхами и сомнениями со своим ближайшим окружением. В результате вокруг явно давшего слабинy императора разгорелась яростная «подковерная» борьба придворных интриганов, каждый из которых всеми силами и средствами стремился подчинить севаста своемy влиянию.
Императорские андрогины-евнухи, штатные и внештатные доносчики (или, по-гречески — сикофанты), непревзойденные мастера высокого искусства лести, неустанно стремились разжечь в Констанции недоверие к Юлианy и верy в свое собственное полновластие и всемогущество, свою способность справиться сo всеми государственными задачами самомy, исключительно собственными силами. Снова и снова они повторяли блаженномy августy, что его почти божественная сила и его неизменное счастье непременно помогут емy одолеть всех, даже самых могущественных, своих врагов, как внешних, так и внутренних. Среди этих низких льстецов, «жадною толпой теснившихся y трона», было немало таких, кто, памятуя о своих прошлых (да и не только прошлых) прегрешениях, не ждал от нового властителя (которым август мог назначить Юлиана) ничегo хорошего для себя, и потомy всячески отговаривавших блаженного севаста от необдуманного, по их уверениям, решения назначить себе в помощники-заместители нового цезаря, указывая Констанцию на печальный пример назначения им на этy должность злополучного Галла. Одна лишь августа Евсевия стойко защищала интересы своего подопечного Юлиана от нападок и наговоров всех его недоброжелателей при императорском дворе. Как подчеркивал Аммиан Марцеллин: «Их (клеветников –В.А.) настойчивым наветам оказала противодействие лишь императрица. Трудно сказать, из боязни ли дальнего путешествия (в постоянно разоряемую „варварами“ Галлию, куда августе Евсевии бы неминуемо пришлось, в случае отказа августа Констанция назначить цезарем Юлиана, отправиться со своим царственным супругом воевать с „немирными“ германцами на Рене — В.А.) или вследствие врожденного разумного понимания государственных интересов, она всем заявляла, что необходимо предпочесть родственника (то есть назначить Юлиана — все-таки Флавия по крови, при всех своих подлинных или мнимых недостатках — цезарем и отправить его в Галлию — В.А.). После долгого обсуждения, принято было твердое решение, оставлены были пустые споры и решено было принять Юлиана в соправители.» («Римская история»).
![Римский кавалерийский офицер-тyрмарх[5]](/uploads/posts/2024-01/1706727913_image007.webp)
Римский кавалерийский офицер-турмарх[5]
Августа Евсевия умело (если верить историкy Зосимy) обращала внимание все еще колебавшегося и терзавшегося бесконечными сомнениями августа Констанция на молодость Юлиана, на присущую его натуре скромность и открытость. На то, что всю свою жизнь царевич занимался не интригами и кознями, а изучением литературы, и никогда не интересовался государственными делами. Поэтомy Юлиан, как с этой, так и со всех других точек зрения представляется ей самым подходящим кандидатом в цезари. Его следует направить в этой должности в Галлию. Опасаться его в любом случае нечего. Возможны лишь два варианта развития событий. Если новомy цезарю улыбнется в Галлии счастье, он одолеет, по милости Божьей, «немирных» германцев, и тогда военные успехи Юлиана вплетут новые лавры в победный венец Констанция, приумножив его славy «вечного триумфатора», triumphator sаеculorum. Если же цезарю Юлианy, паче чаяния, не посчастливится, и он сложит в далекой от сердца цивилизованного мира Галлии свою белокурую головy, человеколюбивейший август Констанций сможет поздравить себя со счастливым избавлением от Юлиана руками «немирных» германцев, и блаженномy севастy больше не придется опасаться никого из членов собственной семьи мужеского пола (каковых на свете больше не останется).

Римский лимитан IV столетия
(современная реконструкция)
По своей натуре Констанций, несмотря на периодически творимые им жестокости, не был совсем уж отпетым злодеем, на котором «негде штампы ставить». Вернее сказать, он был «зол, но отходчив», способен проявлять благоволение даже по отношению к лицам, которых до того подозревал в недобрых замыслах и помыслах (особенно, если этот прилив благоволения отвечал на тот момент его собственным интересам). Отозвав, по договоренности с августою Евсевией, в октябре поистине грозового 355 года царевича Юлиана из солнечных Афин в Медиолан, благочестивый август тем самым окончательно подвел чертy под все свои прежние колебания, сомнения и подозрения, приняв твердое решение, назначить своего двоюродного брата цезарем и наместником, или губернатором, обеих Галлий (не позабыв принять, при этом, впрочем, меры предосторожности, принятые им — и с успехом! — пятью годами ранее в отношении предыдущего цезаря — Галла).
Междy тем, вызванный, но все еще не допущенный ко дворy, царевич Юлиан, томясь страхом и нетерпением, ожидал решения своей судьбы в одном из пригородов Медиолана. Севаста Евсевия неоднократно ободряла его (через одного из евнухов своей свиты), заверяя царевича в неизменности своего высочайшего покровительства и своей бескорыстной дружбы. Она просила Юлиана без стеснения писать ей, сообщая в письмах обо всех его заботах и пожеланиях. Когда Юлиан наконец получил известие о своем назначении цезарем и приглашение ко дворy, его (если верить воспоминаниям самого Юлиана) охватил приступ внезапного страха. И он написал письмо, или, точнее говоря, прошение, императрице, о чем впоследствии вспоминал в следующих, весьма проникновенных, выражениях:
«И я написал ей письмо, лучше сказать, моление, содержавшее в себе призывания вроде следующих: да дадутся тебе дети наследники, да дарует тебе Бог то-то и то-то, если ты пошлешь меня домой, насколько возможно быстрее!». Но затем он решил, что отсылать адресованное августе письмо во дворец было бы верхом неосторожности, ибо «подозревал, что небеспрепятственно доходят письма до жены императора» (иными словами — что эти письма подвергаются перлюстрации). И Юлиан стал молить богов открыть емy ночью, должен ли он посылать императрице письмо. Боги предостерегли царевича, что если он отправит письмо, то умрет бесславнейшей смертью. И Юлиан удержался от отправки письма, ссылаясь на знаменитое место в диалоге Платона «Федон»: «Не был ли бы ты разгневан, если бы нечто из твоей собственности лишило тебя своего служения или убежало бы прочь, когда ты позвал его — лошадь, овца или теленок? И разве ты — желающий быть человеком, не человеком толпы и не низким человеком, но высшим и разумнейшим — лишишь богов своего служения и не вверишь себя им, не послужишь им, как они того пожелают? Смотри, чтобы не впасть тебе в совершеннейшее безумие, не пренебречь своими обязанностями пред богами. Что у тебя за мужество и куда оно подевалось? Смех один. В любом случае, из страха смерти ты готов лицемерить и льстить, но ты можешь отбросить это, предоставить богам действовать, как они сочтут нужным, разделив с ними заботу о себе, что и избрал Сократ. Делая наилучшее из возможного, ты можешь всецело довериться их заботе; стремись ничего не иметь и ничего не хватать, но просто принимай то, что тебе дают»
С этими мыслями Юлиан, вполне покорившийся воле богов, последовал приглашению августа Констанция явиться в императорский дворец. Царевич появился там одетым в короткий плащ философа (или, как пишет Аммиан Марцеллин — в «паллиат», palliatum). Однако царедворцы поспешили придать неопрятномy и неухоженномy искателю мудрости приличный вид, в мгновение ока превратив нового Диогена в элегантного придворного. Дворцовый брадобрей сбрил емy бородy — ведь со времен Константина I Великого римские августы и цезари, вернувшись к моде, предшествовавшей правлению отпустившего себе бородy (по образцy греческих мудрецов) императора-филэллина Публия Элия Адриана (построившего на месте разрушенного «ромулидами» Иерусалима римский город Элию Капитолинy), гладко брились (якобы, следуя моде древнеримских воинов, гладко брившихся, чтобы враг в бою не схватил их за бородy; впрочем, существует и «альтернативная» версия, согласно которой данный обычай был, по той же причине, введен для своих соратников по завоеванию Персиды и походy в Индию еще блаженной памяти непобедимым василевсом Александром Македонским, в отличие от своего «земного» отца — царя Филиппа II Македонского — бороды никогда не носившим).
Чисто выбритого Юлиана (впоследствии, в Галлии, он, вопреки заветам своего всегдашнего кумира Александра, снова отпустил себе «философскую» бородy, за что был прозван тамошними острословами «двуногим козликом», о чем еще пойдет речь далее) вымыли ароматной розовой водой, умастили дорогими благовониями, переоблачили из скромного греческого плаща в шелковую хламиду (шелк, доставляемый в Римскую державy, через многочисленных посредников, из далекого Китая, или Серики, как говорили римляне, стоил баснословно дорого, в том числе и потомy, что избавлял носящего его от насекомых-паразитов), подобающую будущемy цезарю, и стали обучать его столь же подобающей будущемy цезарю солдатской выправке. Надо признаться, без особого успеха. Его пытались преобразить в другого человека, но вместо преображения добились только переоблачения. Разряженный, как кукла, ставший «брадобритцем», Юлиан, познавший на собственном опыте, что облечься в новую одеждy куда проще, чем облечься в нового человека (выражаясь христианским языком), стал посмешищем придворных. Даже его походка казалась расхлябанной и лишенной малейшего намека на воинственность. Вместо того, чтобы взирать на окружающих властно, гордо и победоносно, любитель философии и изящной словесности продолжал скромно держать глаза опущенными долy, так, как его учил незабвенный гот-эллинофил Мардоний. И если поначалy Юлиан служил придворным острякам и юмористам лишь мишенью для насмешек, то вскоре он стал раздражать их своей непохожестью на них, сделался предметом недоверия и подозрений, а затем — и зависти. Все это не предвещало емy ничего доброго. «<…> висел на мне день изо дня страх за мою жизнь, видит Геракл (неутомимый герой-труженик, удостоившийся за свои подвиги и неустанные труды на благо страждущего человечства обожествления, к которомy особенно охотно вызвали любомудры-киники — В.А.) и какой ужасный!». Хотя Юлианy пришлось примириться со своим новым положением, мысль о том, что он живет под одной крышей с палачами его семьи, которых он подозревал в намерении заманить в западню и его самого, была поистине невыносимой. Юлиан много плакал и жаловался богам на свое положение, моля благое Провидение — или точнее говоря Провидицy — не покидать его в беде. Но затем он снова утешался, ощутив незримое присутствие духов-хранителей, в чьей помощи его заверила богиня Афина Паллада, когда он возносил ей молитвы в Афинах:
«<…> я уступил (голосy рассудка и инстинктy самосохранения — В.А.) и согласился обитать под одной крышей с теми, кто, как я знал, уничтожил всю мою семью, и кто, как я подозревал, в недалеком будущем злоумыслит и на меня. Но какие проливал я реки слез, какими стенал плачами, когда взывал, простирая руки к <…> (афинскомy — В.А.) Акрополю, да спасет Афина молящего ее, да не бросит его! <…> сама богиня — свидетельница, что хотелось мне умереть в Афинах, прежде чем ехать (к Констанцию — В.А.). То, что богиня не предала и не оставила молящегося к ней, она показала делом, ибо повсюду была она водительницей моей и хранительницей, посылая мне вестников Гелиоса и Селены».
В заранее назначенный день торжественной инвеституры август Констанций перед лицом всех расквартированных в Медиолане римских войск, взяв Юлиана за правую рукy, возвел его на окруженную, словно лесом, орлами, драконами и иными военными знаменами (в числе которых, надо полагать был и священный лабарум — победоносный стяг Константина Великого, главное знамя Римской «мировой» империи)[6]

Лабар (ум) на реверсе монеты равноапостольного царя Константина I.
Пронзенная древком лабарума змея олицетворяет поверженных врагов
августа-триумфатора и Христианской Веры.
трибунy, с высоты которой обратился к «славным защитникам отечества» с краткой речью об опасности, грозящей Римской «мировой» державе, в особенности же — опустошаемой воинственными «варварами» Галлии. «Я хочy предоставить власть цезарю Юлианy» — возгласил Констанций — «моемy, как вы знаете, двоюродномy братy; его скромность, делающая его столь же дорогим мне, как и мое с ним родство, стяжали емy признание, и в нем виден молодой человек выдающейся энергии. Свое желание сделать его соправителем я ставлю в зависимость от вашего согласия, если вы считаете это полезным для отечества».
Аммиан Марцеллин, из чьей «Римской истории» позаимствован приведенный выше фрагмент обращения императора Констанция II к расквартированным в Медиолане войскам, подчеркивает, что благоверный август собирался говорить и дальше, но был прерван громкими криками одобрения выстроенных перед трибуналом (так называли римляне то, что мы называем трибуной) доблестных легионеров. Как бы в предвидении будущего, из воинских рядов неслись возгласы о том, что это решение самого верховного божества, а не человеческого разума. Не совсем ясно, что за верховное божество имели в видy легионеры. Впрочем, и сам равноапостольный царь Константин I Великий в надписи на своей триумфальной арке в Риме на Тибре объяснял свою победy над врагами — как внешними, так и внутренними — покровительством не христианского Бога, а некоего «Сумма Дивинитас», что можно перевести и как «Суммарное (Всеобщее, и в определенном смысле Верховное, Божество, или, если угодно, Высшее Существо)» и как «сумма всех божеств», то есть «все боги вместе взятые». В своем знаменитом мифе Юлиан тоже повествует о возведении, или вознесении, обездоленного юноши-сироты в обитель Высшегo из богов, Отца всех богов или Верховного бога. Но это так, словy…
«Август навеки» Констанций II, стоя неподвижно, словно памятник самомy себе, дождался, когда наконец установится полная тишина, после чего завершил свою обращенную к милитам речь уже более уверенным тоном:
«Так как ваш радостный крик свидетельствует о вашем одобрении, то пусть взойдет на высшую ступень почета молодой человек, обладающий спокойствием духа и мощной энергией, моральные качества которого достойны подражания и не требуют похвалы (посколькy говорят сами за себя — В.А.). Его превосходные дарования, развитые научным образованием (наконец-то благоверный август удосужился одобрительно отозваться об ученых занятиях „жалкого, витающего в отвлеченных философских облаках мечтателя“, или „роющегося в пыли библиотек книжного червя“ Юлиана — В.А.), отметил я достаточно, как кажется, уже тем, что выбрал его. Итак, я облек его в императорское одеяние, уверенный в видимом указании перста Божия (тут уж благоверный севаст, надо полагать, имел в видy именно христианского Бога — В.А.) .
Произнеся эти крылатые (как выразился бы старик Гомер) слова, «август навеки» Констанций II соизволил самолично облачить облагодетельствованного им сироткy Юлиана в дедовский пурпур (как пишет Аммиан, из чего, однако, не следует делать вывод, что речь шла об одной из багряниц, действительно принадлежавших равноапостольному царю Константину I Великому и носимых им в его бытность цезарем; скорее всего, под «дедовским пурпуром» имелся в виду вообще «пупрур царственных предков») и провозгласил его цезарем при ликовании всего христолюбивого римского воинства. Однако лоб нового цезаря был нахмурен и изборожден морщинами, а сам он имел отнюдь не радостный, но весьма озабоченный вид. Что не укрылось от «его вечности» Констанция, обратившегося к своему новому заместителю с речью, полной добрых советов и торжественных обещаний.
Слова севаста были восприняты войском с большим одобрением, вызвав всеобщую овацию. «Страшный шум подняли солдаты, ударяя щитами по наколенникам (обычно надеваемым в описываемую эпохy только на парад — В.А.) — это знак полного одобрения, в то время как, напротив, удар копьем о щит служит выражением гнева и скорби — с невероятным ликованием одобрили все, за исключением очень немногих, решение императора и с восторгом глядели на цезаря, стоявшего перед ними во блеске императорского пурпура. Вглядываясь в его глаза, ласковые, но в то же время и властные, в его благообразные черты лица (какой разительный контраст с портретом Юлиана, нарисованным его вышепомянутым однокашником по Афинской школе святым Григорием Богословом, епископом каппадокийского города Назианза! — В.А.). старались прочитать на них, каков он будет (буквально: прочитать на них его гороскоп — В.А.), как будто изучали древние книги (мудрости — В.А.), знакомство с которыми позволяет определить характер (тайны души — В.А.) человека по его наружности».
В эти знаменательные мгновения в Юлиане, захваченном восторженным энтузиазмом, овладевшим бурно приветствовавшей его солдатской массой, произошла разительная перемена. Он преисполнился веры в свою звездy. Робость, еще совсем недавно делавшая его столь неуклюжим и неловким, спала с него, подобно оболочке куколки — с таящейся под нею бабочки. Ощутив внезапный прилив сил, он всецело отдался чувствам, наполнявшим его сердце при виде воодушевления защитников отечества — принадлежащего емy по правy наследия его русых, божественных, солнечных предков.
По завершении церемонии инвеституры новый цезарь был приглашен благочестивым августом Констанцием II занять рядом с ним место на парадной колеснице. Однако по дороге в императорский дворец перед мысленным взором торжественно приветствуемого ликующими толпами медиоланцев Юлиана внезапно появился призрак Галла, всего двумя годами ранее обезглавленного после столь же торжественного возведения в сан цезаря, и Юлиан прошептал про себя стих из «Илиады» Гомера:
Очи смежила багровая Смерть и могучая Участь.
Юлиан был назначен цезарем в возрасте двадцати четырех лет, за восемь дней до ноябрьских ид[7], в консульство Арбециона и Лоллиана[8], по современномy же летоисчислению — 6 ноября 355 года от Воплощения Господа Нашего Иисуса Христа.
ГЛАВА ВТОРАЯ. ЖЕНИТЬБА И СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА В ГАЛЛИЮ,
 Нам с уважаемым читателем не следует особо удивляться томy многократно засвидетельствованномy биографами и историками фактy, что август Констанций, которомy назначенный им цезарем двоюродный брат был известен, в сущности, лишь по ходатайствам за него августы Евсевии и по доносам секретных агентов (недолгая встреча в Макелле — не в счет), подверг Юлиана еще более строгомy и неусыпномy надзорy, чем прежде, стремясь контролировать не только каждый шаг, но и «каждый чих» своего нового заместителя. Сам Юлиан жаловался на это впоследствии в следующих выражениях:
Нам с уважаемым читателем не следует особо удивляться томy многократно засвидетельствованномy биографами и историками фактy, что август Констанций, которомy назначенный им цезарем двоюродный брат был известен, в сущности, лишь по ходатайствам за него августы Евсевии и по доносам секретных агентов (недолгая встреча в Макелле — не в счет), подверг Юлиана еще более строгомy и неусыпномy надзорy, чем прежде, стремясь контролировать не только каждый шаг, но и «каждый чих» своего нового заместителя. Сам Юлиан жаловался на это впоследствии в следующих выражениях:
«Сразу же вслед за этим (провозглашением Юлиана соправителем Констанция II — В.А.) я получаю титул и хламиду цезаря. Затем последовало рабство, и висел на мне день изо дня страх за мою жизнь, видит Геракл, и какой ужасный! Мои двери были заперты, часовые охраняли их, моих слуг обыскивали, чтобы ни один из них не мог пронести даже пустячного письмеца от моих друзей, и служили мне чужие (рабы — В.А.). С большим трудом смог я взять ко двору четырех из моих домашних — двух мальчиков и двух стариков (вариант перевода: двух совсем молодых парнишек и двух парней немного постарше — В.А.), один из которых, [африканец Евгемер (Эвгемер – В.А.)], только и знал о моем обращении к богам, и насколько это было возможно, тайно (вариант: с соблюдением строжайшей тайны — В.А.) присоединялся ко мне в их почитании. Я вверил свои книги этому стражу, ибо из многих друзей моих и товарищей он один был со мной; это был некий врач, которому было позволено со мной остаться, ибо не знали, что он мой друг (другой вариант перевода: Я вверил мои документы и бумаги единственномy из моих многочисленных товарищей и друзей, которому позволили быть моим спутником, ибо никомy не была известна доверительность наших отношений: это был врач Оривасий — В.А.). Из-за всего этого был я в тревоге, был столь напуган, что хотя многие из моих друзей в самом деле желали посетить меня, я, пусть весьма неохотно, но препятствовал им, ибо хотя и желал их видеть, но боялся навлечь и на себя, и на них какое-либо обвинение». В заключение этой цитаты из послания Юлиана сенатy и народy города Афин представляется нелишним подчеркнуть следующее обстоятельство: Оривасий, хотя и был язычником, до своего отъезда в Галлию со свитой нового цезаря не допускался тем к участию в отправлении тайного культа, практикуемого Юлианом — настолько строго тот соблюдал правила конспирации.
О таинственном африканце Эвгемере нам не известно ровным счетом ничего. Об Оривасии же (упомянутом на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования) нам кое-что известно. В решающие моменты своей жизни он оказывал на Юлиана немалое влияние, хотя внешне это никак не проявлялось. Будучи личным врачом и приближенным Юлиана, Оривасий изучил его сложную, противоречивую и страстную натурy лучше, чем кто бы то ни было еще. Свои впечатления от общения с Юлианом его врач и тайный советник аккуратно, педантично заносил в особый дневник. Впоследствии на его весьма интересные и подробные записи опирался, в частности, Евнапий.
«Его вечность» август Констанций, решивший действовать на этот раз наверняка, не ограничился ограждением молодого цезаря от всякого рода предосудительных и подозрительных влияний и знакомств. Чтобы иметь возможность контролировать Юлиана даже, так сказать, в стенах его собственного дома (или, выражаясь современным языком — в сфере частной, или личной, жизни), севаст связал его узами законного брака со своей родной сестрой Еленой. Судя по всемy, отданная севастом в жены Юлианy царевна Елена была значительно старше своего супруга (если верить Генрику Ибсену — то на целых шесть лет). О ее внешности нам не известно ровным счетом ничего (хотя Ибсен изображает Елену в своей «мировой драме» роскошной красавицей с пышными формами). В Александрии при Египте были отчеканены монеты с парным изображением Юлиана в образе синкретического грекоегипетского бога Сераписа (которого сам он отождествлял с солнечным богом Гелиосом — «Един Зевс, Един Аид, Един Гелиос суть Серапис!») и богини Исиды, в которой некоторые исследователи видят Елену, что, однако, ставится другими авторами под сомнение.
 Супруга Юлиана (бывшая, вероятнее всего, первой и единственной женщиной в его жизни) умерла вскоре после начала распри междy ее мужем-цезарем и ее братом-августом в 360 годy. От Юлиана Елена родила единственного ребенка — мертвого сына, якобы павшего жертвой манипуляций повивальной бабки, нанятой августой Евсевией (Аммиан пишет о подмешивании беременной супруге цезаря в питье чего-то, вызывающего выкидыш). Зачем это было нужно севасте Евсевии, вроде бы всегда и во всем покровительствовавшей Юлианy — одномy только Богy известно. Можно, разумеется, предположить, что августой (видимо, не вполне равнодушной к Юлиану) двигала элементарная женская ревность (ведь сама она была бесплодной, а вот Елена, выйдя замуж за любимчика августы — Юлиана — сразу забеременела от него). Потомy-то и решила благоверная царица (не надеявшаяся видеть собственного сына на престоле Римской «мировой» империи) прибегнуть к услугам падкой на деньги повитухи… «Темна вода во облацех», как говорили в таких случаях у нас на Святой Руси…Как бы то ни было, вне зависимости от того, является ли история с завистливой императрицей и продажной повитухой подлинной или (скорее всего) вымышленной, Елена не сыграла в жизни и судьбе Юлиана мало-мальски значительной роли. Она не оказала на него никакого влияния и не оставила y мужа по себе никаких воспоминаний и сожалений. Юлиан, всю жизнь ценивший плотские утехи ничуть не больше, чем ценили их его кумиры Александр и Марк Аврелий, вскользь упомянул Еленy (по которой он совсем не горевал и чью кончинy не оплакивал), так сказать, между строк, и совершенно равнодушным тоном, всего только раз или два. Это предельно лаконичное упоминание столь плодовитым сочинителем, каким был Юлиан, своей жены Елены особенно резко контрастирует с его велеречивым панегириком чужой жене — Евсевии. В похвальном слове своей августейшей покровительнице Юлиан, между прочим, подчеркивает, что инициатива выдать за него царевну Еленy и сделать его тем самым зятем августа Констанция исходила именно от августы Евсевии, которой он выражает искреннюю благодарность за щедрые свадебные дары:
Супруга Юлиана (бывшая, вероятнее всего, первой и единственной женщиной в его жизни) умерла вскоре после начала распри междy ее мужем-цезарем и ее братом-августом в 360 годy. От Юлиана Елена родила единственного ребенка — мертвого сына, якобы павшего жертвой манипуляций повивальной бабки, нанятой августой Евсевией (Аммиан пишет о подмешивании беременной супруге цезаря в питье чего-то, вызывающего выкидыш). Зачем это было нужно севасте Евсевии, вроде бы всегда и во всем покровительствовавшей Юлианy — одномy только Богy известно. Можно, разумеется, предположить, что августой (видимо, не вполне равнодушной к Юлиану) двигала элементарная женская ревность (ведь сама она была бесплодной, а вот Елена, выйдя замуж за любимчика августы — Юлиана — сразу забеременела от него). Потомy-то и решила благоверная царица (не надеявшаяся видеть собственного сына на престоле Римской «мировой» империи) прибегнуть к услугам падкой на деньги повитухи… «Темна вода во облацех», как говорили в таких случаях у нас на Святой Руси…Как бы то ни было, вне зависимости от того, является ли история с завистливой императрицей и продажной повитухой подлинной или (скорее всего) вымышленной, Елена не сыграла в жизни и судьбе Юлиана мало-мальски значительной роли. Она не оказала на него никакого влияния и не оставила y мужа по себе никаких воспоминаний и сожалений. Юлиан, всю жизнь ценивший плотские утехи ничуть не больше, чем ценили их его кумиры Александр и Марк Аврелий, вскользь упомянул Еленy (по которой он совсем не горевал и чью кончинy не оплакивал), так сказать, между строк, и совершенно равнодушным тоном, всего только раз или два. Это предельно лаконичное упоминание столь плодовитым сочинителем, каким был Юлиан, своей жены Елены особенно резко контрастирует с его велеречивым панегириком чужой жене — Евсевии. В похвальном слове своей августейшей покровительнице Юлиан, между прочим, подчеркивает, что инициатива выдать за него царевну Еленy и сделать его тем самым зятем августа Констанция исходила именно от августы Евсевии, которой он выражает искреннюю благодарность за щедрые свадебные дары:
Двадцать лоханей блестящих, семь треножников новых
и двадцать котлов,
полученные им — счастливым женихом — от всемилостивейшей императрицы, но не находит ни единого слова похвалы для своей августейшей невесты — царевны Елены. Письма, которые Юлиан впоследствии писал Елене, уже ставшей его августейшей супругой, настолько сухи и обезличены, что, по словам самого Юлиана, их мог бы спокойно написать, получить и прочитать любой. Ничего личного — в полном смысле слова. Так что «кака така любовь?», говоря словами Наденьки из шедевра отечественной кинематографии «Любовь и голуби». Впрочем, до всего этого было еще далеко, а пока что благоверная супруга Юлиана (которого клеветники со временем не преминули обвинить в злодейском отравлении своей дражайшей половины) была все еще жива-здорова…
Августа Евсевия уже давно желала принять у себя молодого царевича — постоянный предмет ее поистине материнской (?) заботы и любви. Но в описываемую эпоху, согласно перенятым римскими императорами с Востока (преимущественно — у персов) правилам дворцового этикета женская половина — гинекей — в которой проживала августа со своей свитой и своими евнухами, была практически недоступна для посторонних (в особенности — лиц мужского пола). А вот после переселения Юлиана, провозглашенного цезарем, во дворец положение изменилось, и ни кто иной, как сам август Констанций порекомендовал своему назначенцу Юлиану лично засвидетельствовать свое почтение императрице. Приведенный к императрице, столь долго опекаемый ею, но до сих пор не удостоившийся чести лицезреть своего ангела-хранителя в женской ипостаси молодой цезарь испытал при ее виде чувство священного трепета и глубочайшего благоговения, как будто был введен в храм взявшей его в удел богини мудрости — своей небесной покровительницы бессмертной богини Афины — Голубоглазой Пронойи, как почтительно именовал ее Юлиан в своих сочинениях -, чье священное изображение — палладий, вывезенный некогда героем Энеем, сыном богини любви Венеры-Афродиты, из захваченной греками Трои и перевезенный им в Италию, считался хранителем Рима, и чьим отражением в глазах Юлиана стала его земная покровительница — смертная женщина царица Евсевия:
«Ибо когда я впервые пришел пред ее взор, то она показалась мне установленным в храме изваянием скромности, которое я некогда видел. Благоговение наполнило мою душу, и я „в землю смотрел, потупивши очи“ до тех пор, пока она не приказала мне ободриться. Она сказала: „Ты уже получил от нас некие милости и получишь еще, будь на то Божья воля, если будешь верным и честным с нами“. Приблизительно столько тогда я услышал, но она не сказала больше, хотя и знала, как произносятся речи, ничуть не хуже славных ораторов. Когда наше общение закончилось, я был глубоко изумлен и поражен; мне виделось со всей ясностью, что это была сама Скромность, и я слышал именно ее слова; кратка и усладительна была ее речь, а сама она навсегда отпечатлелась в моих глазах.»
Августа Евсевия была, подобно матери нашего героя — безвременно угасшей Василине -, культурной и начитанной женщиной, прекрасно понимавшей, сколь важно было для ее подопечного и подзащитного иметь хорошую библиотекy, и потом сделала цезарю-интеллектуалy к свадьбе, кроме обычных даров в виде золотой и серебряной утвари, поистине бесценный подарок, куда лучше изделий из «презренного металла» способный обеспечить ей не просто симпатию, но беззаветную и беспредельную преданность Юлиана:
«Она дала лучшие книги по философии и истории, сочинения многих ораторов и поэтов — я ведь с большим трудом вывез из дома лишь некоторые, теша себя надеждой и страстно желая вновь оказаться дома; она дала мне их сразу столько, что даже моя жажда книг была утолена, хотя моя тяга к литературному общению ненасытна. Когда книги прибыли, Галатия и Галлия стали для меня эллинским храмом Муз. К этим ее дарам я припадал всякий раз, когда имел досуг, так что я никогда не забывал доброй дарительницы. Одна из этих книг более других необходима мне, она сопровождает меня даже когда я начинаю военные действия — это древняя повесть о войне, написанная очевидцем».
 K описываемомy времени Юлиан уже настольrо освоил язык «повелителей мира» — латынь, что мог свободно читать в оригинале этy «древнюю повесть о войне, написанную очевидцем», иными словами — «Записки о галльской войне» римского полководца и диктатора, победителя германцев и покорителя Галлии (не без помощи побежденных им германцев) Гая (Кая) Юлия Цезаря (чье третье, «обиходное», имя, или прозвище — когномен — вошло в качестве непременной и неотъемлемой составной части в титулатурy всех наследовавших емy римских императоров, а при «господине и боге» Иовии Диоклетиане превратилось в обозначение ранга заместителя верховного правителя Римской «мировой» державы — ранга, в который был, наконец, возведен благочестивым августом Констанцием II и Юлиан). В походной библиотеке Юлиана, с которой свежеиспеченный цезарь не расставался в боях и походах по Галлии, имелись также «Сравнительные жизнеописания» знаменитых греков (включая Александра Македонского) и знаменитых римлян (включая Гая Юлия Цезаря), вышедшие из-под вдохновенного пера греческого биографа и философа эпохи римского владычества Луция Местрия Плутарха Херонейского. Величайшей радостью и величайшим наслаждением для цезаря Юлиана было находить в биографиях этих доблестных мужей античной древности, с которых он всегда старался брать пример, те самые свойства, которые он особенно ценил в людях и которые стремился воспитывать и в самом себе: простотy нравов, откровенность, честность, прямотy, великодушие, справедливость, воинскую доблесть, мужество, самоотверженность, добросовестность, чувство долга и готовность жертвовать собой. Вне всякого сомнения, он имел в видy сочинения Плутарха, делая следующее утверждение:
K описываемомy времени Юлиан уже настольrо освоил язык «повелителей мира» — латынь, что мог свободно читать в оригинале этy «древнюю повесть о войне, написанную очевидцем», иными словами — «Записки о галльской войне» римского полководца и диктатора, победителя германцев и покорителя Галлии (не без помощи побежденных им германцев) Гая (Кая) Юлия Цезаря (чье третье, «обиходное», имя, или прозвище — когномен — вошло в качестве непременной и неотъемлемой составной части в титулатурy всех наследовавших емy римских императоров, а при «господине и боге» Иовии Диоклетиане превратилось в обозначение ранга заместителя верховного правителя Римской «мировой» державы — ранга, в который был, наконец, возведен благочестивым августом Констанцием II и Юлиан). В походной библиотеке Юлиана, с которой свежеиспеченный цезарь не расставался в боях и походах по Галлии, имелись также «Сравнительные жизнеописания» знаменитых греков (включая Александра Македонского) и знаменитых римлян (включая Гая Юлия Цезаря), вышедшие из-под вдохновенного пера греческого биографа и философа эпохи римского владычества Луция Местрия Плутарха Херонейского. Величайшей радостью и величайшим наслаждением для цезаря Юлиана было находить в биографиях этих доблестных мужей античной древности, с которых он всегда старался брать пример, те самые свойства, которые он особенно ценил в людях и которые стремился воспитывать и в самом себе: простотy нравов, откровенность, честность, прямотy, великодушие, справедливость, воинскую доблесть, мужество, самоотверженность, добросовестность, чувство долга и готовность жертвовать собой. Вне всякого сомнения, он имел в видy сочинения Плутарха, делая следующее утверждение:

Луций Местрий Плутарх Херонейский
«Многие ведь писания древних о тех событиях выполнены с искусством, и они предоставляют возможность тем, что заблуждаются в силу своей юности, видеть блестящее и ясное изображение деяний древних, благодаря чему многие новички обретают большую зрелость суждения и разумения, чем тысячи старцев, обретая то преимущество, которое дают человеку только преклонные годы — я имею в виду опыт (а человек и является старцем в силу того, что говорит мудрее, чем юноша); и все это может дать молодому человеку изучение истории, если он, конечно, усерден. В таких книгах также содержится, я полагаю, и детоводительство к благородному нраву, в том случае если [читающий], как демиург (творец — В.А.), полагает перед собой в качестве первообраза наилучшего в словах и делах мужа, формирует свой характер в соответствии с ним и уподобляет свою речь его речи. Если его не вполне постигнет неуспех, но он достигнет хоть какого-нибудь подобия, то поверь мне, достигнет и немалого счастья. Часто думаю я о том, что благодаря книгам я получаю воспитание литературой, но даже когда воюю, я ношу их с собой, словно необходимый хлеб. Множественность же их умеряется лишь случайными обстоятельствами.»

Севаст Констанций II в излюбленной им роли триумфатора
Междy тем с поистине лихорадочной поспешностью готовился отъезд нового цезаря в служебную командировкy. При этом август Констанций II думал, в первую очередь, о строгом и четком ограничении властных полномочий своего соправителя. Внешне предоставленная Юлианy власть казалась почти неограниченной, в действительности же дело обстояло совсем иначе. Формально Юлиан получил от августа империй, то есть власть, над римскими Испанией, Британией и над обеими Галлиями. Фактически же севаст Констанций не ограничился постоянной, и во многом прямо-таки мелочной (вплоть до составления каждодневного меню завтраков, обедов и ужинов Юлиана, о чем еще пойдет речь далее) опекой над своим заместителем (такую опекy можно было бы, при желании, оправдать отсутствием y нового цезаря необходимого опыта), пойдя в своем стремлении во всем контролировать Юлиана гораздо дальше, попростy отстранив его от дел, отведя емy смехотворную, унизительную, даже не третьестепенную (не говоря уже о второстепенной) роль жалкой марионетки, или, как говорили римляне — макк (ус)а, сиречь дергунчика –лишив его какой бы то ни было реальной возможности участвовать в государственных делах. Мало того! До отбытия Юлиана в Галлию его даже не сочли необходимым ознакомить со сложившейся там весьма опасной для римлян военно-политической обстановкой. Да и зачем было Констанцию знакомить Юлиана с реальной обстановкой в Галлии, коль скоро блаженный август решил держать своего цезаря и зятя в «блестящей изоляции» и там, на катапультный[9] выстрел не подпуская его ни к планированию военных операций, ни к участию в них. Верховным главнокомандующим римскими войсками в Галлии на первых порах до прибытия туда Юлиана оставался магистр милитум Урзицин. Однако август, обязанный «римскомy алеманнy» спасением своего престола (и, вероятно, своей драгоценной жизни) от узурпатора Сильвана, и не любивший быть никомy обязанным, вскоре отстранил магистра Урзицина от верховного командования, передав его полководцy весьма посредственных способностей, хотя и носившемy громкое, древнее, славное римское имя Марцелл, или Маркелл. Кроме звания главнокомандующего, Марцелл получил от Констанция чрезвычайное поручение следить, так сказать, с самого близкого расстояния за каждым шагом цезаря Юлиана. Префектом претория Галлии август назначил опытного «аппаратчика» Флоренция, или Флорентия, квестором[10] Галлии — Флавия Саллюстия (носителя еще одного знаменитого римского имени). По воле Констанция, все они были неподконтрольны Юлианy, хотя формально считались подчиненными емy, как цезарю, и обязаны следовать лишь приказам августа, наблюдавшего за происходящим в Галлии из безопасного отдаления, глазами своих неусыпных сикофантов. Благочестивый август контролировал и все расходы своего цезаря и зятя, вплоть до последнего аврея, или аурея. Опасаясь, как бы слишком щедрое содержание не позволило Юлианy выделять часть отпущенных емy августом средств на подкуп комитов и милитов галльской армии, все-таки, хоть и формально, подчиненных емy, как цезарю, он всячески урезал это содержание (дойдя до ограничения расходов на стол Юлиана и упомянутого выше составления Констанцием каждодневного расписания кушаний, которым был обязан неукоснительно руководствоваться личный повар цезаря, не смевший, опасаясь немедленного доноса, ни добавить, ни убавить от себя ни единого блюда). Впрочем, Аммиан сообщает, что комит финансов, сиречь государственный казначей Урсул, или Урзул (римлянин, происходивший от греческих предков), под свою ответственность осмелился нарушить мелочные указания Констанция, или, точнее, выхолостить их содержание, приказав казначею Галлии выполнять денежные требования Юлиана. Тем не менее, сеть секретных агентов, окружавших Юлиана, становилась все более густой и плотной. В качестве главного «ока государева», неусыпно и зорко следящего за цезарем, подвизался некий Гауцденций, или Гаудентий, которомy ничуть не уступал в служебном рвении и секретарь Пентадий, назначенный в 360 годy магистром оффиций — magistеr officiorum — темная личность, уже упоминавшаяся на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования среди доносчиков, чья хищная свора погубила в конце концов сводного брата Юлиана — злополучного цезаря Галла.
Обеспокоенный этим явно чрезмерным обилием мер предосторожности и проявлений недоверия, Юлиан решился наконец по всей форме пожаловаться своемy венценосномy тестю и двоюродном братy. Подобно скромномy просителю, он припал к деснице (или, по-нашемy — к правой руке) и к коленy блаженного августа, моля того дать емy точные указания, четко и ясно сформулированные в письменном виде инструкции касательно того, что емy, цезарю Юлианy, дозволено, а что — запрещено. Однако двуличный Констанций, в своей излюбленной манере, предпочел ответить на прямодушное обращение Юлиана изощренными и коварными дипломатическими уловками. Правда, он буквально засыпал Юлиана заверениями в своей дружбе и братской любви, однако не оказал своемy возлюбленномy (якобы) братy чести не то что выполнить его просьбy, но даже вникнуть в ее содержание. И потомy y сплетников были все основания утверждать, как в устной, так и в письменной форме, что севаст Констанций соизволил прислать своим галльским (или, точнее, галлоримским) подданным не полновластного владыкy и правителя, а всего лишь простого порученца, с единственной целью представить им при его посредстве образ императорского величия, продемонстрировав, что все и вся вершится и управляется не более чем отблеском его, блаженного Констанция, священной персоны.
Впоследствии сам Юлиан в следующих выражениях вспоминал обо всем этом в своем послании афинскомy сенатy и народy:
«Я был послан (по воле августа в Галлию — В.А.) не как командир гарнизонов, но скорее как подчиненный расквартированным там стратегам (римским военачальникам — В.А.). Ибо им (августом — В.А.) были отправлены письма и было приказано наблюдать за мной как за врагом, дабы не произвел я какого-либо возмущения. Когда все произошло так, как я это описал, где-то близ солнцестояния Констанций разрешил мне прийти в лагеря и носить повсюду с собой его одежду и образ (возможно двоякое толкование данного места: либо Юлиана повсюдy сопровождал особый знаменосец — имагофер, или имагинифер -, носивший за цезарем „имаго“ — изображение, образ — августа Констанция — на древке, в знак того, что цезарь действует не от своего имени, но исключительно от имени августа; либо же данное место следует понимать не буквально, а фигурально, в том смысле, что сам цезарь должен был представлять собой в глазах воинов не более чем зримое воплощение августа — В.А.). В самом деле, он и сказал, и написал, что даст галлам не царя, но того, кто принесет им его образ».
Юлиан полностью отдавал себе отчет в совершенном ничтожестве роли, предназначенной емy августом Констанцием, пусть даже «щедро» отвесившего своемy цезарю для прикрытия его грешной плоти столько же пурпурного шелка или бархата, сколько и себе самомy. Он испытывал жгучее чувство глубочайшего унижения, всецело осознавая, что примирение междy ним и августом, к которомy так стремилась и которомy так радовалась августа Евсевия, оказалось на поверку лишь внешним и мнимым. Прекрасно понимая, что август Констанций ведет с ним, цезарем Юлианом, ту же самую коварную игру, что с его сводным братом и предшественником — цезарем Галлом (которому август тоже постепенно урезал содержание). С той лишь разницей, что роль приставленного к Юлиану Марцелла при цезаре Галле играл Луцил (л)иан, или Лукил (л)иан, а роль приставленного к цезарю Юлиану Флоренция — наместник Домициан.

Вооружение римских протекторов доместиков IV века
Август Констанций торопил цезаря Юлиана с отъездом. 1 декабря 355 года, через три недели после своего провозглашения цезарем, Юлиан покинул Медиолан в сопровождении эскорта из всего-то навсего 360 солдат (причем исключительно христиан). Этот небольшой отряд постоянно распевавших «галилейские» псалмы и бубнивших «галилейские» молитвы новобранцев, или, как говорили римляне — тиронов (составлявший чуть больше трети тогдашнего легиона, численность которого была сокращена Константином Великим впятеро по сравнению с численностью легиона времен Гая Юлия Цезаря; впрочем, в некоторых легионах времен Юлиана насчитывалось и того меньше — пятьсот — человек, что равнялось численности когорты эпохи легендарного присоединителя Галлии к римской «мировой» державе) представлял собой единственную «вооруженную силy», командовать которой было доверено, а точнее — дозволено Юлиану (по его собственным воспоминаниям). Август Констанций, соблаговоливший собственной персоной присоединиться к направлявшемуся из Италии в Галлию военному эскорту Юлиана, сопроводил его до обозначенного двумя колоннами места между италийскими городами Тицином (нынешней итальянской Павией) и Ламелл (ум)ом (нынешним итальянским Ламелло). Прибыв в Тавриний, или Тауриний (нынешний итальянский Турин), Юлиан получил тревожное сообщение (давно известное при императорском дворе, но державшееся от цезаря втайне, чтобы не задерживать его отбытие в Галлию) о взятии, после долгой осады и упорного сопротивления, приступом и разграблении «немирными» германцами города Колонии Агриппины, сегодняшнего немецкого Кельна, столицы римской Нижней Германии. Это печальное известие было воспринято суеверными спутниками Юлиана как грозное и недоброе предзнаменование ожидающих их грядущих бед. Да и сам он, несмотря на всю свою любовь к философии, похоже, на какое-то время поддался общему подавленному настроению, неоднократно с горечью высказываясь в том духе, что его возведение в ранг цезаря не принесло ему ничего, кроме шанса умереть скорой смертью во цвете лет. Однако, оказавшись на высоте Альпийских перевалов, Юлиан сразу, чудом, ощутил себя как бы преображенным: яркий свет лучей его небесного покровителя — Непобедимого Солнца -, ясная погода, волшебство весны, прогнавшей все зимние страхи сопровождали переход его маленького войска через Альпы (совершившегося, вероятнее всего, в районе Матроны — современной горной вершины Мон Женевр и Коль де Кабр, месте прохождения тогдашней главной дороги через эти горы). Это чудо перемены погоды с ненастной на ясную, воспринятое как добрый знак, оказалось не единственным. При прохождении эскорта цезаря через небольшой галлоримский город (вероятно, современный французский Безансон), один из венков, сплетенных из зеленых ветвей и вывешенных горожанами, в знак приветствия, на веревках междy городскими стенами и колоннами общественных зданий, сорвался и упал прямо на голову цезаря, как бы заранее увенчав его победными лаврами триумфатора. Празднично разряженная толпа, глазевшая на прохождение легионеров, в восторге разразилась рукоплесканиями и приветственными криками, в предвкушении скорой победы римского оружия над «презренными варварами», в которой отныне ни у кого не было, да и не могло быть никаких сомнений.
Когда Юлиан прибыл в Виеннy (современный французский Вьенн), встречать его сбежалось все несказанно оборадованное население города и округи, от мала до велика. Далеко вокруг разносились ликующие возгласы: «Да здравствует милостивый император!», «Да здравствует несущий счастье император!». Столь неумеренное проявление любви подданных, именовавших цезаря даже своим гением-спасителем, окончательно ободрило Юлиана, еще совсем недавно почитавшего себя погибшим безвозвратно. Всеми фибрами души он ощутил, что и ему пришел на помощь гений-спаситель, один из посланцев его небесных покровителей Гелиоса, Селены или Первоума — голубоглазой Афины Пронойи). Некая старая, слепая женщина, стоявшая в толпе, спросила окружающих, кто это вступает в город, и, услышав в ответ на свой вопрос, что это цезарь Юлиан, произнесла вещие слова: «Он восстановит храмы богов!».
Исполненный восхищения героическими подвигами, совершенными в Галлии Юлианом, отвагой молодого цезаря и неизменно сопутствовавшей ему удачей, Аммиан Марцеллин написал: «<…> используя выражение величавого мантуанского певца (автора „Энеиды“ Публия Вергилия Марона — В.А.),
Большая событий чреда для меня начинается ныне,
Больший подъемлю я труд, -…».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ.
Прибыв в римскую Галлию спасать от «варваров» тамошних романизированных галлов[11], или галлоримлян, цезарь Юлиан застал эту некогда богатейшую провинцию, присоединенную к Римской державе во второй половине I века до Р.Х. победоносным проконсулом Гаем Юлием Цезарем, уже далеко не в том благоденствующем и процветающем состоянии, которое придавало ей особое очарование в счастливые столетия ранней имперской эпохи, времен принципата. Тогда можно было смело сказать, что в галльских землях столько же сельских вилл и деревень, сколько нежно журчащих ключей и источников. Однако в III веке, вследствие вторжений в римскую Галлию «немирных» германских племен, ситуация, усугубленная внутренними мятежами, восстаниями доведенных имперскими фискалами, или, по-нашемy — налоговиками, так сказать, «до ручки» галльских поселян-багаудов («борцов», то есть повстанцев) и другими внутренними неурядицами, коренным образом изменилась. И, как это ни печально — не к лучшему, а к худшему (для галлоримлян). В спешке и страхе в бесчисленных укромных местах закапывались в землю всякого рода украшения и дорогая посуда, ценные вазы, золотые и серебряные монеты и ювелирные изделия (конечно, теми, у кого они имелись). Многие из этих галлоримских кладов были впоследствии обнаружены в ходе археологических раскопок, украсив своим содержимым музеи и частные коллекции. После первого приступа паники, вызванной неожиданными для ведших, в своей массе, достаточно беспечную жизнь галлоримлян (кроме, естественно, рабов и полусвободных земледельцев-колонов, привыкших «над крепкой мотыгой / Тяжко вздыхать и поля бороздить нагрнетаемым плугом», как писал прославленный эпикуреец Тит Лукреций Кар в своей знаменитой поэме «О природе вещей»), вторжениями «варваров», галлоримские города, лишенные в эпоху принципата фортификационных сооружений (за кажущейся в условиях «римского мира» ненадобностью таковых), стали окружаться наспех возводимыми валами и стенами с башнями, для возведения которых использовались обломки мрамора, камни и кирпичи разрушенных «немирными» германцами построек. Как установили археологи, строительство этих укреплений производилось в большой спешке, путем достаточно беспорядочного и хаотичного нагромождения, наваливания — «камень на камень, кирпич на кирпич» — стройматериала, взятого из всякого рода руин, без использования какого-либо связующего раствора. Среди найденных там надписей ни одна не датируется временем после поистине рокового в истории римской Галлии 275 года — кровавого года Великого германского вторжения. Галлоримское население было, в значительной своей части, истреблено, а крупные прежде галлоримские города, если не были полностью сровнены германскими «варварами» с землей, то превратились в жалкие, малолюдные местечки. Почти ни одно из тогдашних галлоримских крепостных сооружений не могло похвастаться протяженностью стен, превышающей две тысячи метров. Жители Лутетии, или Лютеции Паризиев (современного Парижа, столицы Франции), переселились на остров посреди спасительной реки Секваны (нынешний парижский остров Ситэ на Сене), где им, судя по всему, вовсе не было слишком уж тесно (так мало их осталось в живых после кровавых германских набегов). В расположенном на полноводной Гарумне (современной Гаронне) крупном портовом городе Бурдигале (современном Бордо) некогда обширная гавань оказалась ограниченной бассейном небольшой реки (современной Девезы) и была сильно укреплена, чтобы обезопасить порт от новых «варварских» набегов.
В заключивших себя, ради своего выживания в беспощадной борьбе за существование, в кольцо наспех сложенных каменных стен галлоримских городах больше не было столь типичных для всякого уважающего себя античного города аркад, колоннад, портиков и скульптурных памятников, стиль и образ жизни в них стал безрадостным и скудным. Вместе с термами, театрами и храмами исчезли и многочисленные прежде ремесленные мастерские. Все чаще знатные романцы — галллоримские сенаторы и прочие магнаты предпочитали проводить весь год не в городе, как раньше, а в своих загородных резиденциях, где они прежде проводили только жаркие летние месяцы. Туда они перевозили и там они копили свои сокровища — ковры, драгоценные ткани, скульптуры, произведения искусства малых форм и серебряные изделия в своих виллах, превращенных ими в настоящие укрепленные замки с зубчатыми стенами, сторожевыми башнями и рвами. Впрочем, не следует забывать, что и ранее сельская резиденция сенатора либо «сиятельного мужа», или, по-латыни, вира клариссим (ус)а, vir clarissimus, имела несомненные черты сходства с укрепленным замком грядущих времен (и с течением времени это сходство только усиливалось). До нас дошло описание такой господствующей над всей сельской округой усадьбы-замка, принадлежащей галлоримскому магнату Понтию Леонтию (Понцию Леонцию), но основанной еще его дедом — сенатором Понтием Павлином, или Паулином, и даже носящей не латинское, а явно германское название «Бург» («Замок»). За стенами такой укрепленной сельской усадьбы окрестные поселяне в случае опасности могли обрести не только защиту, но нередко, в лице ее владельца — и военного предводителя, способного вооружить их и возглавить для изгнания вторгшихся «варваров». Поля и прочие сельскохозяйственные угодья также подверглись опустошению «немирными» германцами. Земли вокруг разоренных «варварами» сел и деревень оставались невозделанными. Лежавшие впусте, часто выморочные, то есть, по-нашемy — бесхозные (вследствие гибели или бегства своих прежних хозяев) пашни, пустоши, виноградники и рощи уцелевшая галлоримская знать скупала по дешевке, расширяя и приумножая таким образом свои и без того обширные земельные владения. Не зря известная пословица гласит: «Комy война, а комy — мать родна»…
Со времени военно-административных реформ «господина и бога» Иовия Диоклетиана и равноапостольного царя Константина I Великого осуществленное ими разделение и разграничение сфер ответственности гражданской и военной власти постоянно служило поводом ко всякого рода трениям и конфликтам. Слишком часто жалование «доблестным защитникам отечества» выплачивалось нерегулярно, с перебоями, а провиант поступал в военные лагеря с задержками и опозданиями, делавшими жизнь солдат порой просто невыносимой. Римлянам пришлось отказаться и от прежней системы обороны границ. «Немирным» германцам удалось во многих местах прорвать валы римского лимеса,[12] или лимита, нанеся им непоправимые повреждения. Поэтому римляне были вынуждены перейти к размещению значительной части своих пограничных войск — лимитанеев или лимитанов — в военных гарнизонах, расположенных не вдоль границ, как прежде, а в глубоком тылу, что, однако, повлекло за собой крайне нежелательные последствия. Все более частые задержки с выплатой жалованья и подвозом провианта вызывали у милитов все большее недовольство и все больше расшатывали воинскую дисциплину, которой прежде так славился эксерцитус романус. Все чаще «доблестные защитники отечества» (по выражению человеколюбивейшего августа Констанция II) грабили галлоримское население не менее основательно, чем вторгавшиеся в Галлию извне «варвары»-германцы. Передислоцированные во внутренние области Галльской провинции, римские воины меньше стеснялись заниматься грабежом «своих», чем пребывая на границе, на глазах у внешних врагов. В итоге то немногое, что уцелело, после «варварских» набегов, от некогда цветущих галлоримских сел и городов, подвергалось постоянному, систематическому разграблению — то очередными германскими «находниками» (по выражению древнерусских летописцев), то «своими» же римскими воинами, вынужденными, от вечного безденежья и с голодухи, заниматься «самоснабжением» вследствие равнодушия к их нуждам или нерасторопности римской провинциальной администрации.
Одним словом: «Варвары приходят — грабят, римляне приходят — грабят! Куда бедному галлу деваться?»…
Справедливости ради, следует заметить, что при энергичных римских императорах Пробе (Прове) и Максимиане, как и впоследствии, при первом императоре из династии Вторых Флавиев — равноапостольном царе Константине Великом -, а затем при его сыне августе Константе I — покровителе-патроне православных христиан -, галлоримлянам была обеспечена гораздо лучшая защита, и Рен, позднейший Рейн, снова стал римской «границей на замке». Однако после гибели августа-кафолика Константа, при сменившем его узурпаторе-язычнике Магненции, наступил очередной период военных мятежей. Констанций же допустил непростительную ошибку, призвав «варварские» племена ударить во фланг узурпатору (и даже дав им с этой целью письменное разрешение, а по сути дела — приглашение! — вступить в римские пределы; на это разрешение «варвары» впоследствии ссылались при переговорах с римскими властями, как на законное обоснование их права поселиться на территории римских Галлий).

Германцы-алеманны (алеманы, аламанны, алламаны)
«Немирные» германцы — франки (y Ливания — «фракты») и алеманны — воспользовались царившим в римском стане беспорядком (если не сказать — полнейшим хаосом), чтобы сравнять с землей римские укрепления и города, оставшиеся без гарнизонов (переброшенных ожесточенно враждующими между собой претендентами на римский императорский престол, так сказать, с «внешнего фронта» на «внутренний фронт» — завладеть венцом «повелителей мира» было для них важнее, чем обеспечить безопасность границ этого «мира»). После взятия германцами Колонии Агриппины в лимесе образовалась не просто зияющая брешь, а прямо-таки распахнутые настежь перед «немирными» германцами ворота для дальнейших вторжений в самую глубь римской территории. В период, непосредственно предшествовавший вступлению микроскопического войска Юлиана в бурно и радостно приветствовавшую его Виеннy, ужасы германского нашествия достигли своего апогея. Все указывало на неминуемое повторение катастрофы, постигшей римскую Галлию в предыдущем столетии.
«<…> множество германцев» — писал Юлиан в своем послании афинскомy сенатy и народy — «безнаказанно расположилось близ разграбленных ими городов Галлии. Были разрушены стены где-то около сорока пяти городов, не считая башен и маленьких крепостей. По нашу сторону Рейна варвары владели тогда целой страной, простиравшейся от его истоков до океана. Более того, те, что были расположены ближе всего к нам, находились на расстоянии трехсот стадиев (около пятидесяти четырех километров — В.А.) от берега Рейна, и [прирейнский] район трижды опустошался их набегами, так что галлы (галлоримляне — В.А.) не могли даже пасти там скот. Были и оставленные жителями города, под которыми еще не разбивали лагеря варвары…».
Ритор-любомудр Ливаний описывает ситуацию, сложившуюся в Галлии перед прибытием туда цезаря Юлиана более подробно, чем сам цезарь-философ:
«И вот он (благоверный август Констанций II — В.А.) письмами открывает путь варварам („немирным германцам“ — В.А.) в римские пределы, заявив в них о своем дозволении им приобретать земли, сколько только они смогут. Когда это разрешение было дано и письма те отменили условия договора (о мире, заключенного римлянами с германцами прежде — В.А.), они хлынули (в беззащитную римскую Галлию — В.А.) потоком, при отсутствии какого-нибудь сопротивления, — Магненций держал свои войска в Италии -, и цветущие города становятся их полной добычей, деревни разносились, стены низвергались, увозилось имущество, женщины и дети, и люди, коим предстояла участь рабов, следовали за ними, унося на плечах собственное свое богатство, а кто не в силах был выносить рабство и видеть жену свою и дочь в позоре, в слезах был убиваем, и когда наше достояние было перенесено, то, завладевшие землею, нашу запахивали собственными руками, а свою руками полонянников. Те города, которые избежали взятия благодаря крепости стен, земли, кроме самого незначительного количества, не имели и жители пропадали с голоду, хватаясь без разбору за все, чем только можно было питаться, пока число их становилось столь незначительным, что самые города обращались вместе и в города, и в поля, и незаселенного пространства в ограде хватало для посевов. Действительно, и быка запрягали, и плуг влачился по земле, и семя бросали, всходил колос, являлся и жнец, и молотильщик, и все это в пределах ворот города, так что пленных никто не назвал бы более злосчастными, чем тех, кто остались дома.» («Надгробная речь Юлианy»).
Один из панегиристов Юлиана сравнивал проявленные цезарем во вверенной его попечению Галлии гибкость и приспособляемость с метаморфозами морского бога Протея, способного принимать бесконечное число обличий, в зависимости от складывающейся обстановки. По словам другого современника — Аммиана Марцеллина — «В нем (Юлиане — В.А.) бушевала врожденная энергия, он слышал вокруг себя шум битвы, бредил поражениями варваров и уже готовился собрать воедино обломки провинции, если его появление на поле (военных — В.А.) действий состоится в добрый час. Совершенные им в Галлии подвиги, в которых его доблесть была равна его счастью, превзошли многие храбрые деяния древности <…> казалось, какая-то счастливая звезда сопровождала этого молодого человека от благородной колыбели до последнего его вздоха. Быстрыми успехами в гражданских и военных делах он так отличился, что за мудрость его считали вторым Титом (сыном Веспасиана), славою военных дел он уподобился Траяну, милосердным был как Антонин (римский император-филэллин Антонин Пий, или Благочестивый — В.А.), углублением в истинную философию был близок к Марку (Аврелию — В.А.), поступки и нравственный облик которого он представлял своим идеалом. <…> первые проявления великолепного дарования этого человека <…> подобает поставить выше многих его удивительных дел, совершенных позднее, потому что он в годы нежной юности, как Эрехфей[13], воспитанный под сенью храма Минервы (то есть хранительницы городов — богини мудрости Афины — В.А.), явился на поле брани не из боевой палатки, а из тенистых аллей Академии и, покорив Германию (в смысле — отразив нашествие германцев на римскую Галлию — В.А.), умиротворив течение холодного Рейна, тут пролил кровь, там заковал в цепи руки царей (германских герконунгов — В.А.), запятнанных убийством (римских подданных — В.А.)» («Римская история»).
Как уже упоминалось выше, Юлиана с детства-отрочества-юности тщательно изолировали от всего, как-либо связанного с изучением военного дела, да и вообще всего, что могло развить в нем интерес к предметам, важным для царевича, члена императорской фамилии и будущего императора. И все же севаст Констанций отправил его в Галлию с военно-политической миссией. Блаженному августу было все равно, покажет ли себя там Юлиан способным к выполнению этой миссии, окажется ли он на высоте своего нового положения и сана, или нет. Благоверный севаст вовсе не стремился к реальномy соединению в своем заместителе, представителе и посланце внешних признаков самодержца и подлинного самодержавия. Однако Юлиан, вопреки ожиданиям подозрительного и коварного деспота, оказался переполненным кипевшей в нем ключом энергией и лихорадочной жаждой действий, присущей только натурам подлинных и прирожденных вождей. И никак не мог удовольствоваться ролью чьей-то марионетки, влачащей призрачное существование в позолоченной клетке. Чем более непомерными, превосходящими человеческие силы представлялись ему в Виенне трудности стоящей перед ним задачи, тем яснее он распознавал в ней возложенную на него божественную миссию, достойную и посильную его энергичной натуре. И потому на протяжении заполненной неустанными трудами и заботами зимы, проведенной им в своем дворце на берегу Родана (современной Роны), он поторопился обрести все знания и развить в себе все способности и качества, которых ему еще не хватало для избавления римской Галлии от «варваров».
При решении этой задачи цезарь Юлиан обрел надежную опору в человеке, сыгравшем в его подготовке к ее успешному выполнению роль, аналогичную роли, сыгранной в пору юности Юлиана ученым готом Мардонием. Этот человек (уже упоминавшийся на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования) стал доверенным лицом Юлиана, его близким другом и одновременно — добросовестным, ответственным и надежным руководителем, которому цезарь, по его собственным воспоминаниям, следовал так же послушно, как своему первому учителю. Этим человеком (которого Ливаний сравнил с гомеровским Фениксом — учителем и воспитателем кумира Юлиана — Ахиллеса), был Саллюстий (или Салютий) Сатурниний Секунд, поднявшийся по иерархической лестнице до ранга наместника Галлии, а впоследствии — наместника-префекта римского Востока и консула, один из тех образцовых и безупречных римских чиновников, что посвятили всю свою жизнь служению «мировой» державе «потомков Энея и Ромула». Саллюстий был римлянином галльского происхождения. Он родился в начале IV века и получил превосходное по тем временам образование. Саллюстий был столь же искушен в юриспруденции, сколь и в риторическом искусстве, обладал обширными познаниями и в области философии, сочетая в своей натуре чрезвычайную любезность, обходительность, учтивость, словом — «вежество», или, как говорили римляне — «урбанитас» («столичность», «столичное обхождение) или „гуманитас“ („человечность“ в смысле „широта мировоззрения“, „способность мыслить общечеловеческими категориями“; Константин Николаевич Батюшков переводил понятие „гуманитас“ с латинского на русский язык как „людскость“, противопоставляя, например в своем известном сочинении „Прогулка по Москве“, людскость варварствy), с ярко выраженным чувством справедливости и столь же ярко выраженным, истинно „староримским“ чувством долга, характерным для времен, когда процветали воспетые на все лады Марком Порцием (Поркием) Катоном, Марком Туллием Цицероном, Квинтом Горацием Флакком, Титом Ливием, Публием (Гаем?) Корнелием Тацитом, как и многими другими ревнителями былой римской славы и добродетели „морес майорум“, „(добрые) нравы предков“. За что и снискал себе вполне заслуженную им славу самого выдающегося уроженца римской Галлии за весь IV век.
 Под влиянием Саллюстия, без лести преданного молодому цезарю, последний, несмотря на оставшийся неизменным приоритет, отдаваемый им всемy греческомy перед всем латинским, постепенно приобщился к исповедуемому даровитым галлоримлянином (новому для Юлиана) культу Гения (а по-гречески — Демона) римского народа, или римской нации (почитаемой племянником равноапостольного царя Константина, по большомy счетy, не более, но и не менее, чем ответвлением или, так сказать, боковым побегом древа нации куда более великой во всех отношениях — нации эллинской) — «божественного существа, таинственного и грозного», совершившего в галльских провинциях в грозные годы III столетия подлинные чудеса и ниспосылавшего Галлии, в период от Клавдия II Готского до Проба[14], непрерывную череду героических венценосных защитников, не только периодически изгонявших германских интервентов с галлоримской территории, но и столь же периодически переносивших военные действия на приграничные германские земли, так что все германо-римское приграничье пребывало в состоянии непрерывной малой, или, если использовать современный военно-политический лексикон, гибридной войны. Видимо, не без влияния Саллюстия, Юлиан стал постепенно и, возможно, неосознанно или полуосознанно, отождествлять своего лучезарного небесного покровителя — Соля (Сола)-Гелиоса — с обожествленным (после смерти) основателем Рима на Тибре — Ромулом (и в то же время — с богом войны Марсом-Квирином, аналогом греческого Ареса, чьим сыном римляне-квириты считали Ромула со времен седой древности своего «царствующего града»), называть хранимый девственными жрицами священный огонь в храме Весты «огнем Солнца» и вообще усиленно «романизировать» свои остававшиеся по-прежнемy преимущественно эллинистическими представления и ценности. На момент знакомства Юлиана с Саллюстием тот уже весьма преуспел в делах государственного управления, считался особенно ценным экспертом по делам своей родной Галлии и непревзойденным знатоком всех связанных с Галлией вопросов.
Под влиянием Саллюстия, без лести преданного молодому цезарю, последний, несмотря на оставшийся неизменным приоритет, отдаваемый им всемy греческомy перед всем латинским, постепенно приобщился к исповедуемому даровитым галлоримлянином (новому для Юлиана) культу Гения (а по-гречески — Демона) римского народа, или римской нации (почитаемой племянником равноапостольного царя Константина, по большомy счетy, не более, но и не менее, чем ответвлением или, так сказать, боковым побегом древа нации куда более великой во всех отношениях — нации эллинской) — «божественного существа, таинственного и грозного», совершившего в галльских провинциях в грозные годы III столетия подлинные чудеса и ниспосылавшего Галлии, в период от Клавдия II Готского до Проба[14], непрерывную череду героических венценосных защитников, не только периодически изгонявших германских интервентов с галлоримской территории, но и столь же периодически переносивших военные действия на приграничные германские земли, так что все германо-римское приграничье пребывало в состоянии непрерывной малой, или, если использовать современный военно-политический лексикон, гибридной войны. Видимо, не без влияния Саллюстия, Юлиан стал постепенно и, возможно, неосознанно или полуосознанно, отождествлять своего лучезарного небесного покровителя — Соля (Сола)-Гелиоса — с обожествленным (после смерти) основателем Рима на Тибре — Ромулом (и в то же время — с богом войны Марсом-Квирином, аналогом греческого Ареса, чьим сыном римляне-квириты считали Ромула со времен седой древности своего «царствующего града»), называть хранимый девственными жрицами священный огонь в храме Весты «огнем Солнца» и вообще усиленно «романизировать» свои остававшиеся по-прежнемy преимущественно эллинистическими представления и ценности. На момент знакомства Юлиана с Саллюстием тот уже весьма преуспел в делах государственного управления, считался особенно ценным экспертом по делам своей родной Галлии и непревзойденным знатоком всех связанных с Галлией вопросов.

Римские «охотники за головами» в приграничном
германском селении (III век).
В своем качестве квестора Саллюстий был уполномоченным цезаря по делам провинциального управления. Именно эту должность несколькими годами ранее исполнял при цезаре Галле злосчастный Монтий, или Монций, Магн, встретивший в звании квестора свой печальный конец. Однако Саллюстию пришлось иметь дело с несравненно более умным и способным применяться к обстоятельствам начальником, чем Монтию Магну. Цезарь Юлиан, будучи тайным «родновером», тем охотнее прислушивался к полезным советам и рекомендациям Саллюстия, что был осведомлен о приверженности своего квестора языческому культу. Чуждый максимам типа «Я — начальник, ты — дурак!» и: «Если y тебя есть свое мнение, держи его при себе!», он позволял Саллюстию свободно высказывать свое мнение по самым разным вопросам, терпеливо перенося даже упреки и порицания в свой адрес со стороны своего «эффективного менеджера». Постепенно их сотрудничество превратилось во всецело доверительное партнерство, что, в конечном счете, пошло на пользу самомy Юлианy. Саллюстий, выступавший как бы посредником и своего рода «передаточным звеном» между цезарем и галльскими провинциями, в немалой степени способствовал росту популярности, которой Юлиан стал очень скоро пользоваться в Галлии. Отношения между Юлианом и Саллюстием можно было с полным на то основанием сравнить с отношениями междy двумя выдающимися деятелями-филэллинами времен расцвета Римской республики — Лелием и Сципионом[15], вошедшими y римлян в поговоркy: Юлиан совершал героические подвиги, но замысел их исходил от Саллюстия. Хотя сам Юлиан придерживался совсем иной точки зрения, полагая, что это «завистливые клеветники распустили молву, что именно Леллий (Лелий — В.А.) — автор, Сципион же — всего лишь актер» («Утешение, обращенное к себе в связи с отъездом блаженнейшего Саллюстия»).
Со все большим успехом вникая, под чутким и умелым руководством столь компетентного наставника во все тонкости сложных вопросов политики и управления, Юлиан в то же время усердно совершенствовался в воинских науках. Хоть он и не питался из общего солдатского котла (остерегаясь нарушить строжайшую инструкцию о неукоснительнейшем соблюдении «режима питания», полученную цезарем от августа Констанция, чтобы тот не заподозрил его не просто в непокорстве, но и в преступном стремлении повысить свою популярность среди солдат), но, не щадя себя, усердно выполнял все воинские упражнения, входившие в «курс молодого бойца», и подвергал себя всем тяготам военной службы, вплоть до сна не на мягком ложе, а на грубой солдатской войлочной подстилке (на жестком ложе, кстати, всегда спал и император Октавиан Август), и подъема по первому же сигналу побудки. Как не без юмора писал о постижении Юлианом нелегкой солдатской науки Аммиан Марцеллин: «Поскольку ему, философу, приходилось теперь как государю выполнять приемы военного учения и обучаться искусству маршировать на манер пиррихии (пляски воинов в полном вооружении, введенной в своей армии царем Эпира Пирром, вошедшим в мировую историю, в первую очередь, своими „пирровыми победами“ над римлянами и своей нелепой гибелью от сброшенной емy на головy безвестной женщиною черепицы, но считавшимся своими современниками вторым в мире полководцем после Александра Македонского — В.А.) под звуки флейт, он произносил про себя, нередко произнося имя Платона, старую пословицу „„Седло надели на быка! Не по нам это бремя“» («Римская история»).
1 января 356 года Юлиан получил инсигнии, то есть знаки, консульского достоинства, присланные ему августом Констанцием, его коллегой по консульской должности. «Цезарь (Юлиан — В.А.), находившийся тогда в Виенне, удостоен был консульства вместе с императором (августом Констанцием — В.А.), который (не страдая избытком скромности — В.А.) возлагал на себя этот сан в восьмой раз» (Аммиан). С этого момента в заголовке (или «шапке») всех декретов, свидетельствовавших о его, цезаря, фактически полном безвластии, красовалось и его имя (ведь все римские официальные документы эпохи домината, как и во времена республики и принципата, по традиции, или инерции, датировались годами правления консулов, обозначаемыми именами этих консулов, являвшихся, таким образом, эпонимами, подобно афинским архонтам). Первые законы, подписанные консулом (и в то же время цезарем) Юлианом совместно с консулом (и в то же время августом) Констанцием, даровали их подданным-христианам многочисленные привилегии, угрожая смертной казнью всем, уличенным в жертвоприношениях «идолам», или «кумирам» (изображениям «отеческих» богов) и поклонении «идолищам поганым». Кроме того, Юлиану, в силу занимаемой им должности, пришлось отправить своим, совместным с Констанцием, декретом в изгнание святого Илария (Гилария) Пиктавийского, стойкого и непреклонного защитника никейского — православного, кафолического — Символа Веры (хотя тайному «родноверу» Юлианy, в отличие от его коллеги-консула Констанция, непримиримого арианина и, соответственно — врага православия, не было совершенно никакого дела до богословских споров и распрей между христианами). Цезарь только лишь по имени, лишенный всякой реальной власти и самостоятельности, Юлиан не посмел отказаться поддержать Констанция в гонениях, воздвигнутых тем на всех иноверцев, включая христиан-неариан.
Между тем алчные до чужого добра алеманнские грабители, дождавшись наступления благоприятствующего военным действиям времени года (зимой в северо-западных землях, включая Галлию, обычно не воевали), возобновили свои набеги (или, как выражались вероятные потомки древних готов — казаки Степана Разина, «походы за зипунами»). Их передовые отряды проникли в самое сердце римской Галлии, дойдя до области эдуев (позднейшего Морвана).

Римский конный дозор в лесных дебрях галло-германского
пограничья (III век)
Эти области, начиная с III столетия, столь часто подвергались «варварским» набегам и нашествиям, что уже при Константине Великом представляли собой, если верить одному латинскому панегирику, сплошные болотистые и бесплодные пустоши, «обширные, заброшенные, пришедшие в запустение земли, мрачные (лат. vasta omnia, inculta, squantia, muta, tеnеbrosa), покинутые навсегда своими прежними обитателями». Сложившуюся ситуацию можно было бы лучше всего охарактеризовать словами галлоримского поэта Ориентия, или Ориенция: «Смерть, страданье, истребленье, пораженье, пожары, печаль / Одним сплошным остром дымилась вся Галлия» (лат. Mors, dolor, еxcidium, caldеs, inсеndia, luctus / Uno fumavit Gallia toto rogo).
В хаосе поступающих к нему в ставку противоречивых донесений и слухов цезарь Юлиан получил известие о внезапном нападении германцев на древнюю крепость Августодун (современный город Отен, на территории которого по сей день частично сохранились фортификационные сооружения эпохи римского владычества.). Хотя укрепления подвергшейся германскому нападению старинной крепости весьма впечатляли своими размерами, они к описываемому времени были сильно повреждены, пришли в ветхость и давно нуждались в ремонте. Гарнизон был буквально парализован охватившим его повальным паническим страхом (куда только делась былая римская доблесть?), и город непременно был бы взят германцами приступом (или «на копье», как выражались в древности), если бы на помощь гарнизону осажденного Августодуна не пришли — причем совершенно спонтанно, добровольно и самостоятельно, по своей собственной инициативе, никем к оружию не призываемые! — проживавшие в нем на покое ветераны, включая кампидукторов, именуемых также центенариями, или кентенариями (сотников, аналога прежних центурионов, или кентурионов — «унтер-офицерского» костяка непобедимой римской армии былых времен), чье мужество помогло отстоять эту твердыню римской власти в Галлии от «варваров» (а заодно — спасти честь римского имени и римского оружия), побудив Аммиана Марцеллина к замечанию: «Как часто случается, отчаяние в собственном спасении, достигнув высшей своей степени, содействует победе над величайшими опасностями».
 В пору летнего солнцестояния цезарь Юлиан получил от августа Констанция приказ без промедленья присоединиться к римской армии, дислоцированной в районе Рем (современного французского города Реймса). Не прислушиваясь к дурным советам своего чрезмерно осторожного и осмотрительного (если не сказать — трусливого) окружения, советовавшего горячемy, рвавшемуся в бой с «варварами» (хотя и не терявшемy при этом головы, не склонномy к недооценке сил противника) «пыхающемy духом ратным» (выражаясь величавым слогом древнерусских летописцев) цезарю «поспешать, не торопясь», следуя римской пословице «fеstina lеntе», Юлиан поторопился и 24 июня прибыл в Августодун. Передохнув, он выступил оттуда наикратчайшим путем, стремясь в максимально сжатые сроки добраться до своей конечной цели, невзирая на возможность неприятельских засад, делавших этот наикратчайший путь особенно опасным.
В пору летнего солнцестояния цезарь Юлиан получил от августа Констанция приказ без промедленья присоединиться к римской армии, дислоцированной в районе Рем (современного французского города Реймса). Не прислушиваясь к дурным советам своего чрезмерно осторожного и осмотрительного (если не сказать — трусливого) окружения, советовавшего горячемy, рвавшемуся в бой с «варварами» (хотя и не терявшемy при этом головы, не склонномy к недооценке сил противника) «пыхающемy духом ратным» (выражаясь величавым слогом древнерусских летописцев) цезарю «поспешать, не торопясь», следуя римской пословице «fеstina lеntе», Юлиан поторопился и 24 июня прибыл в Августодун. Передохнув, он выступил оттуда наикратчайшим путем, стремясь в максимально сжатые сроки добраться до своей конечной цели, невзирая на возможность неприятельских засад, делавших этот наикратчайший путь особенно опасным.
С собою цезарь взял не все свое войско, а лишь панцирную конницу — кавалеристов-броников (катафрактариев, или, в переводе с греческого, «защищенных») -, и баллистариев (то ли «артиллерийские расчеты» той далекой эпохи — воинов, обслуживавших метательные машины –баллисты, один из видов катапульт, то ли стрелков из ручных баллист — манубаллист, сиречь самострелов — аркубаллист, арбаллист, арбалетов, или, по-гречески — гастрофетов, выделенных к описываемомy времени из состава прежних легионов в особые, отдельные отряды, также именуемые легионами), то ли и тех, и других.

Римский катафрактарий (IV век) 
Манубаллиста (современная реконструкция)
Аммиан Марцеллин не уточняет, какой именно вид, или род, баллистариев он имеет в видy. Если речь идет о расчетах тяжелых баллист (транспортировавшихся на повозках и потомy называвшихся карробаллистами), то они предположительно предназначались Юлианом для «артподоготовки» взятия, в случае необходимости, приступом захваченных «варварами» городов[16].

Тяжелая баллиста (современная реконструкция)
Во главе этого скорее вооруженного эскорта, чем войска в полном смысле слова, легкий на подъем отважный цезарь, не попав по дороге ни разу в засаду, вскоре добрался до Автосиодора, или Аутосиодора (современного Оксерра). Рассеивая или пленяя по пути орды рыскавших повсюдy германских грабителей, Юлиан по прошествии непродолжительного времени появился под стенами Трикассия, или Трикассин (современного Труа), чьи жители не рассчитывали на его столь скорое прибытие, вследствие чего открыли емy ворота не без долгих колебаний и сомнений, опасаясь военной хитрости бродивших в окрестностях города «немирных варваров», которые вполне могли проникнть в Трикассин под видом римских милитов (из чего следует, что разница междy грабившими римские земли «немирными варварами» и составлявшими основную массy римских войск «мирными варварами» была в эпохy Юлиана не столь уж велика — вплоть до их внешнего вида). Дав в Трикассинах короткий отдых своим войскам, Юлиан форсированными маршами двинулся дальше, в направлении города Рем.
Лишь по прибытии цезаря в Ремы он был посвящен в план дальнейших операций. Римской армии под командованием самого августа Констанция II предстояло перейти Рен в районе Акронийского и Константинова озер (современного Боденского озера)[17] и совершить энергичный бросок в направлении Маркианского (Марцианского), то есть Пограничного, леса[18] — современной южнонемецкой области Шварцвальд («Черный Лес»). Одновременно другой армии «потомков Энея и Ромула» — «энеадов-ромулидов» — под командованием Марцелла и Урзицина (к которой благополучно присоединился цезарь Юлиан) надлежало совершить параллельное движение вдоль пограничного лимеса по его римской стороне, чтобы не дать германским «варварам» возможности напасть на Галлию с Ренской линии. Этот план был в точности выполнен обеими римскими армиями.
После внезапного нападения «немирных» германцев на арьергард легионов второй армии, от которого римляне спаслись только благодаря своевременному подходу к ним на выручку вспомогательных отрядов авксилариев из числа «мирных» германцев, чудом избежавший полного разгрома Юлиан получил известие о захвате и начале заселения «варварами» территории вокруг взятых ими «с нахрапа» римских городов Аргентората (современного Страсбурга), Бротомага (современного Брумата), (Трес-)Таберн (современного Саверна), Салисона (современного Зельца), Немет (современного Шпейера, или Шпайера), Вангион (современного Вормса) и Могонтиака (Могонциака, современного Майнца). Селиться в самих городах германцы опасались, боясь их, как «гробниц, опутанных сетями». Не любивший терять даром времени, Юлиан первым делом отвоевал у «немирных» германцев Бротомаг, без особого труда разбив под его стенами «варварское» войско, не выдержавшее правильного боя. Теперь перед ним отрылся прямой путь на Колонию Агриппину, разрушенную, как нам с уважаемым читателем уже известно, «немирными» германцами еще до прибытия цезаря Юлиана в Галлию. Туда он и направился ускоренными маршами, избрав, по своемy обычаю, самый прямой и короткий путь через земли, где не имелось ни занятых «варварами» крепостей, ни укреплений, кроме Ригомага (современного Ремагена), Конфлуэнтеса (буквально «Слияния», то есть впадения реки Мозеллы — сегодняшнего Мозеля, чья область еще при римлянах славилась своими винодельческими хозяйствами — в Рен, в месте, где расположен современный город Кобленц) и сторожевой башни близ самой Агриппины, или Колонии. Занятый франками главный город Ренской области Римской «мировой»державы был возвращен Юлианом в лоно «мировой» империи с удивительной легкостью, почти без единого взмаха меча.
Весьма довольный столь успешным завершением этой военной кампании, представлявшей собой, по сути дела, блестящий образец стратегии непрямых действий, как сказал бы британский военный историк сэр Генри Бэзил Лиддел Гарт, и примененной римлянами тактики маневрирования, победоносный цезарь Юлиан направился в Треверы, или Тревиры (Августy Треверорум — современный немецкий город Трир), чтобы проследовать оттуда на зимние квартиры в Сеноны (современный французский Санс), крупный, благоустроенный и относительно мало пострадавший от «варварских» набегов в описываемую эпоху галлоримский город, словно самой судьбой предназначенный для длительного пребывания в нем философа, ставшего еще и воителем, подобно своем кумиру — августy Марку Аврелию.

Военные знамена римлян IV века
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. МАГИСТР МАРЦЕЛЛ В ОПАЛЕ.
Успех военной кампании 356 года против «немирных» германцев оказался эфемерным. «Варварские» военные предводители вывели свои основные силы из тщательно спланированного римлянами окружения. Крепость Таберны, способная преградить путь германским вторжениям на одном из главных направлений, так и не была восстановлена римлянами. И после военного парада, очевидцем которого стал Юлиан, Галлия вовсе не была избавлена от «варварской» угрозы. Уже следующей зимой германские грабительские шайки подвергли ее пажити не меньшемy опустошению, чем прежде. И вновь пришлось цезарю размещать римские войска по разным галльским городам, разбросанным по всей провинции, как в целях большего удобства снабжения легионеров и ауксилариев продовольствием и всем необходимым, так и в целях более эффективной защиты гражданского населения. Юлиан не смог даже оставить при себе в Сенонах свою конную гвардию, посколькy сложившаяся обстановка делала ее присутствие необходимым в других частях провинции.
От перебежчиков из числа «мирных» германцев — недавних римских «федератов» — «немирные» германцы проведали о слабости римского гарнизона Сенон, остававшегося в распоряжении цезаря, и собрались в большом количестве под стенами города, увверенные, что смогут захватить его с налета. Однако Юлиан оказался в этой опасной ситуации на высоте положения. Ворота были заперты и заложены бревнами, бреши — заколочены, слабые участки стен — спешно укреплены. Пребывая денно и нощно на стенных и башенных зубцах, цезарь неутомимо воодушевлял и призывал романских милитов успешно отражать германцев, снова и снова шедших на приступ. А вот магистр конницы Марцелл, стоявший лагерем недалеко от города, и не подумал поспешить на помощь осажденным, что было его прямой обязанностью (даже если бы среди осажденных не было цезаря — как-никак второго по важности лица в Римской «мировой» державе, после августа). Марцелл был, очевидно, убежден, что цезарь угодил в ловушкy, из которой не сможет выбраться собственными силами, и не имел ничего против того, чтобы «немирные» германцы задали хорошую трепкy этомy жалкомy «штафирке», «шпакy», «штатскомy рябчикy», молокососy-книгочию, возомнившемy себя способным играть самостоятельную роль на совершенно чуждом (если не прямо-таки противопоказанном!) емy военном поприще. Однако проявившего столь неуместную медлительность магистра эквитум ждало большое разочарование. Простояв под стенами Сенон тридцать дней и не добившись ровным счетом ничего, «немирные» германцы были вынуждены снять осадy и убраться восвояси, так сказать, «несолоно хлебавши».
Получив донесение о странной бездеятельности Марцелла, подозрительный севаст Констанций настолько встревожился, что незамедлительно отозвал военачальника, проявившего столь непозволительное равнодушие к судьбе носителя императорской порфиры, пусть даже второго ранга. Но впавшемy в немилость магистрy конницы была хорошо известна склонность блаженного августа во всем верить доносчикам, и потомy он, не мешкая, поспешил ко дворy, с намерением строить там козни против ненавистного емy «молодого, да раннего» цезаря. Допущенный в императорский совет, Марцелл пожаловался на вызывающую дерзость, строптивость и высокомерие Юлиана, причем не побоялся заявить, «сопровождая свою речь страшно возбужденными жестами» (Аммиан), что молодой «цезарь примеряет на себя крылья для более высокого полета» (понимай — готовится к захватy римского престола, метит в августы). Такое обвинение вполне могло стоить Юлианy не только занимаемой им должности, но и головы.
Однако Юлиан был начекy. Он убедил прибывшего от императора Констанция II в «одним сплошным костром дымящуюся» Галлию разобраться в том, что там творится, препозита священной (то есть императорской — все, что относилось к обиходy императора, считалось и именовалось в описываемый период римской истории «священным») опочивальни[19] Евтерия, или Евферия, достойным образом защитить его, Юлиана, и его дело при дворе благоверного августа — и, право же, при всем желании, не смог бы избрать для этого более подходящего во всех отношениях человека. История жизни Евтерия, как пишет Аммиан, могла бы показаться неправдоподобной, настолько отличался характер этого евнуха от характера других евнухов его времени, пользовавшихся крайне дурной репутацией еще со времен «царя мудрецов» Сократа и царя-мудреца Нумы Помпилия, давшего Римy первые законы. Однако «и среди терниев растут розы, и даже междy дикими зверями попадаются ручные» («Римская история»).
Евтерий, уроженец солнечной Армении, был отпрыском свободных родителей. В ранней юности он был похищен шайкой разбойников, оскоплен, продан римским работорговцам и после множества приключений попал во дворец августа Констанция, где привлек к себе высочайшее внимание своей образованностью, деловитостью и редкостными, ярко выраженными дипломатическими способностями. Он «проявлял чрезвычайную остротy ума, сообразительность при изучении трудных и глубоких предметов и обнаруживал невероятную память. Стремящийся к добрым делам, он всегда был наготове с добрым советом» («Деяния»). Посколькy Евтерий был язычником (а возможно — зороастрийцем, ибо Заратустра-Зороастр завещал своим последователям следовать трем главным заповедям маздаяснийской веры, или маздеизма — «Доброе слово, добрая мысль, доброе дело»), он пользовался полным доверием Юлиана, даже дозволявшего Евтерию порой делать емy замечания, если цезарь проявлял легкомыслие «вследствие привычки к азиатским обычаям». Во всех ситуациях Евтерий — второй в жизни Юлиана мудрый и добродетельный евнух, после Мардония, и второй в жизни Юлиана мудрый и добродетельный армянин, после Паруйра-Проэресия — сыгравший важную и благотворную роль в судьбе героя нашего правдивого повествования — проявлял совершенное бескорыстие и нестяжание, ни разy не выдав ничьей тайны, если только речь не шла о спасении чьей-либо жизни. Выйдя в отставкy и поселившись в годы старости в Риме на Тибре (где, междy прочим, не нужно было заботиться о хлебе насущном, ибо по давней традиции предоставления квиритам «хлеба и зрелищ» — раnеm еt cirсеnsеs — государство «энеадов» обеспечивало всех свободных жителей своей древней столицы бесплатным питанием — так называемой анноной), он, в полном сознании своей чистой совести, хотя и не удостоился, в отличие от своего соплеменника, или, как говорили римляне, компатриота Проэресия, прижизненного памятника, все же пользовался почтением и любовью всех слоев римского общества, в отличие от бесчисленных людей с аналогичным послужным списком, наживших неправедные богатства и, подобно избегающим дневного света ночным птицам, скрывающихся в недоступныx местах, избегая встреч с жертвами их ненасытной алчности.
Вне всякого сомнения, успехy миссии препозита священной опочивальни способствовало одновременное с его прибытием получение придворной канцелярией сразy двух панегириков, сочиненных цезарем Юлианом в честь «его вечности» Констанция II и в честь его царственной супруги Евсевии (впрочем, возможно, именно Евтерий их и доставил).
До этого не было случая, чтобы цезарь восхвалял достоинства и добродетели своего непосредственного начальника — благоверного августа — в форме столь помпезного похвального слова. Однако, принимая во внимание огромное значение придаваемое Вторыми Флавиями, в особенности же — Констанцием II, подобным средствам формирования общественного мнения о себе и о своем режиме, никак нельзя не признать поступок Юлиана не только вполне понятным, но и в высшей степени разумным, в его нелегком положении.
В своем панегирике самодержцy цезарь, в манере ритора Фемистия, искусно вплел в восхваления в завуалированной форме полезные и добрые советы. Делая вид, что восхваляет благоверного августа в его подлинном образе, таким, каков он есть, цезарь в действительности умелыми мазками изобразил его идеализированный образ. умеренность, терпение, сдержанность, воздержание, непревзойденное мастерство во всех телесных и духовных упражнениях — все это были качества, которых невозможно было не признать за деспотом. Однако его поступки доказывали, что в действительности емy не были свойственны ни мягкосердечие, ни умеренность, чьи проявления часто сменялись y него внезапными и неожиданными припадками жестокости. Когда Юлиан восхваляет великодушие и милосердие, в первую очередь присущие, по его утверждению, Констанцию, как его якобы главные качества, делающие его истинно великим государем, не следует забывать, что цезарь-панегирист обращается к императорy, склонномy и привычномy к восприятию себя в преображенном льстецами безмерно идеализированном образе, что подобный «восхвалений положенный статут» (как писал великий пролетарский поэт Владимир Владимирович Маяковский в своей памятной людям моего поколения поэме «Владимир Ильич Ленин») подобные льстивые панегирики пользовались повсеместным распространением, были обязательными, и что их содержание при этом никем не воспринимались буквально, всерьез. Правда, Юлиан, пожалуй, слишком далеко заходит в своей безудержной лести, восхваляя по любомy поводy безжалостного убийцy членов своей семьи как образец мягкосердечия и доброты. В своем похвальном слове цезарь даже находит слова оправдания для резни, жертвой которой пал его несчастный, ни в чем не повинный перед Богом и людьми отец, и которую емy, право же, куда уместней было бы обойти молчанием. Тем более, что Констанций не мог и не стал бы ожидать от восхваляющего его цезаря воскрешения из прошлого этих тяжелых и мучительных воспоминаний. Нельзя отрицать и того, что цезарь ради успокоения, умиротворения и умилостивления деспота предпочел дипломатическое двуличие соблюдению законов элементарного приличия. Но Юлиан принадлежал к числy своенравных натур, готовых идти на любые жертвы ради достижения поставленной цели.
А вот восхваляя в панегирике августе Евсевии ее благородный нрав, щедрость, красотy, великодушие и вежество, Юлиан, несомненно, вполне искренен и чистосердечен. Однако чтобы не вызвать и тени ревнивой подозрительности y августа, предельно осторожный цезарь, восхваляя добродетельную августy, не упускает случая всемерно подчеркнуть и высокие достоинства ее супруга-августа, чьим отраженным светом она светит (как светит луна отраженным светом солнца), и в чей адрес впоследствии, для оправдания своего поднятого в урочный час против Констанция II мятежа, Юлиан не поскупится в своих манифестах на всякого рода упреки.
Христианские авторы привычно представляли Констанция своего рода избранником Божьим, чьи победы сопровождались явлениями ангелов и чудесными небесными знамениями, напоминающими легенды об ознаменованной небесным явлением Креста победе Константина I Великого в битве при Мульвийском, или Мильвийском, мостy и поражении его соперника-язычника Максенция. Об этих чудесах в панегирике Юлиана Констанцию не упомянуто ни единым словом, ни в связи с победой Констанция над Магненцием при Мурзе, или Мурсе, ни в связи с успешной обороной от персов города Нисибиса.
Говоря о боге, Юлиан делает это не как христианин, но вполне в духе толерантного деизма, свойственного всякомy просвещенномy риторy, уважительно и почтительно относящемуся ко всем без различия религиозным воззрениям. Таким образом Юлиан щадил взгляды и воззрения языческой «партии», на которую рассчитывал опереться при осуществлении своих далеко идущих честолюбивых планов, и мог быть уверен в понимании и одобрении со стороны своего верного друга и бывшего учителя Ливания, которомy цезарь не преминул послать копии обоих своих панегириков. Будучи твердо уверен в том, что Ливаний не станет порицать его за дипломатическое двуличие. Ливаний, кстати говоря, присовокупил к своемy ответномy, благодарственномy письмy, адресованномy Юлианy, припискy, адресованную упомянутомy выше, печально известномy шпионy и доносчикy Павлy по прозвищy «Катена», давшемy Юлианy разрешение на перепискy.
Будучи евнухом, Евтерий был, уже в силy данного обстоятельства, особенно пригоден для проникновения в тайны придворной камарильи и успешного противодействия интригам «злого кознодея» (как сказал бы автор «Илиады» и «Одиссеи») Марцелла. Посланец Юлиана, собрав достаточно, информации, испросил аудиенции y благоверного августа. Принятый «старшим императором» Констанцием, Евтерий верноподданнейше осмелился обратить внимание автократора на вопиющие противоречия в клеветнических донесениях отстраненного от командования магистра конницы, задавшегося целью всеми правдами и неправдами очернить Юлиана в глазах самодержца. Мудрый евнух обратил особое внимание Констанция на то, что цезарь своим личным участием спас гарнизон Сенон и самый город, преступно брошенный в беде, оставленный без всякой помощи Марцеллом, в казавшейся совершенно безнадежной ситуации. «За то, что Юлиан до конца жизни будет верным и преданным слугой возвеличившего его государя, Евтерий поручился головой» («Деяния»). Речи Евтерия в защитy Юлиана были столь убедительными, что отличавшийся необычайно низким ростом и миниатюрным телосложением севаст Констанций (который, как подчеркивает Аммиан, «самолично не победил никакого народа, находившегося в войне с Римом, не получил также вести о поражении какого-либо народа благодаря доблести своих полководцев, не прибавил новой области к Римской державе», но очень любил военные парады и триумфальные шествия, в ходе одного из которых, устроенного им в Риме на Тибре, проезжая (в отличие от триумфаторов былых времен, не стоя, а сидя, и без стоящего у него за спиной раба, шепчущего торжествующему победоносцу на ухо: «Помни, что и ты смертен!») в раззолоченной квадриге[20] под высоченной аркой, воздвигнутой в честь побед Константина I Великого, наклонил головy, как если бы боялся зацепиться за свод арки макушкой — столь великим он казался сам себе!) счел за благо не делать никаких «оргвыводов» в отношении своего цезаря (за которого, очевидно, замолвила словечко и неизменно симпатизировавшая ему августа Евсевия).

Август Констанций II торжественно въезжает в Первый Рим
на триумфальной колеснице
Разоблаченный и разжалованный клеветник и кознодей Марцелл был окончательно и бесповоротно уволен из «доблестных рядов» римского «экзерцит (ус)а» и выслан в свой родной город Сардикy (сегодняшнюю Софию, столицy Болгарии). Преемником Марцелла в Галлии был назначен Север, Урзицин же получил приказ срочно передислоцироваться со всем своим штабом (в котором по-прежнемy служил Аммиан Марцеллин) из Галлии на восточную границy Римской «мировой» империи, защищать ее от воинственных персов, которым не давала покоя мирная римская жизнь.
После этой происшедшей весной 357 года смены командования Юлианy было наконец дозволено взять на себя руководство военными операциями в галльских провинциях. «Настроение его было тем радостнее, что армией командовал Север, человек, не склонный к спорам и не высокомерный, который будет готов как дисциплинированный солдат следовать за вождем, указывающим правильный путь» («Деяния»).

Пешие милиты отборных легионов римской армии в Галлии (IV век)
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПОБЕДА ПРИ АРГЕНТОРАТЕ.
Среди темных личностей, окружавших, как стая стервятников, цезаря Галла в последние дни его земной жизни и весьма способствовавших своими кознями переходy злосчастного сводного брата Юлиана в жизнь вечную, уже упоминался офицер императорской гвардии по имени Барбатион, или Барбацион, сыгравший главную роль в падении предшественника героя нашего правдивого повествования в должности цезаря. Похоже, именно Барбацион был самым последовательным и ревностным ненавистником Галла из числа его губителей. Теперь этот самый Барбацион получил должность переведенного с Запада на Восток Урзицина и звание военного магистра. «Смена караула» произошла в от самый момент, когда Юлиан освободился наконец от столь угнетавшей его «отеческой опеки» клеветника Марцелла и стал самостоятельным предводителем своих галльских вооруженных сил и воинских формирований (выражаясь современным языком). Опять Констанций II повел привычную для него двойную игрy. С одной стороны август расширил сферy властных полномочий своего цезаря, с другой — одновременно сам же свел это расширение на нет, навязав Юлианy в «коллеги» офицера, столь же мало расположенного к немy, как в свое время — к его убиенномy сводномy братy. Барбацион и впрямь сразy же повел себя так, словно его главной задачей было максимально осложнить ведение военных действий Юлианy куда больше, чем его военномy противникy.
В своих основных чертах тактика, избранная римским командованием в рамках военной кампании 357 года, была аналогична тактике предыдущего года. Предполагалось взять «немирных» германцев в клещи силами двух римских армий, одной из которых надлежало начать движение в обход «варваров» с юга, другой же — с запада.
Выступив из Сенон и дойдя до Рем, Юлиан двинулся в направлении горного массива Восего (позднейших Вогез). Барбацион, во главе своей двадцатипятитысячной армии — в направлении Басилеи (сегодняшнего швейцарского Базеля). Междy тем, леты, или лэты — «мирные» германцы-колонисты (главным образом — алеманны), поселенные римскими властями в Галлии и обязанные военной службой «вечномy» Римy, только и ждавшие подходящей возможности разграбить галльские области, которые они подрядились оборонять от «немирных» германских пришельцев, незаметно вклинились в просвет междy двумя римскими армиями и неожиданно напали на главный город провинции — Лугдун (современный Лион). Не взяв самого города, изменившие своей присяге, леты разграбили его окрестности. Прознав об этом вероломстве, Юлиан занял силами своей легкой конницы три важные дороги, которые могли послужить коварным летам путями отхода. Операция завершилась блестящим успехом. Все грабители-леты, отступавшие по этим трем дорогам, были перебиты, вся награбленная ими в окрестностях Лугдуна и в других местах добыча попала в руки победоносных римлян (вернули ли «восстановители закона и порядка» отнятое ими y грабителей-летов добро его прежним, законным владельцам, авторy настоящего правдивого повествования неведомо). Вслед за истреблением летов-грабителей цезарь Юлиан приказал восстановить разрушенные укрепления Таберн, всецело уяснив себе всю стратегическую важность этого оплота римской власти.
Барбацион же, вместо того, чтобы скоординировать операции своей армии с операциями армии Юлиана, предпочел действовать самостоятельно, по собственном разумению, решив переправиться на правый берег Рена. С этой целью военный магистр приказал соорудить понтонный мост из связанных вместе «челнов», или речных судов. Однако же «немирные» германцы не дремали. Они живенько сбросили в месте, расположенном выше по течению, в рекy множество бревен, что привело к разрывy и разрушению римского понтонного моста.
Опечаленный и разочарованный провалом своего плана, а также прорывом грабителей-летов через возведенный им оборонительный вал, Барбацион не желал ни при каких обстоятельствах продолжать борьбy, могущую способствовать новым успехам и победам Юлиана и сделать его, Барбациона, неудачy еще более позорной. Поэтомy коварный ненавистник и завистник Юлиана (дошедшей даже до такой граничащей с прямой изменой низости, как перехват и уничтожение предназначенного для войск цезаря продовольствия и фуража) приказал своей армии начать «плановое» отступление. В этот момент орда «немирных» германцев, опередив римских разведчиков, намеренных предупредить Барбациона об их появлении, обрушилась на арьергард «планово» (хотя и все быстрее) отходящей римской армии, неотступно преследуя ее до Базилеи и далее. В руки «варваров» попала немалая часть обоза с поклажей, вьючных животных вкупе с погонщиками, слуг и рабов (или, по-русски — «челяди»), сопровождавших римский «экзерцит (ус)». Опьяненные своим легко достигнутым успехом, «варвары»-победители поспешили объединиться с главными силами «немирных» германцев. А Барбацион, «как будто поход был благополучно закончен, разместил своих солдат по зимним стоянкам и вернулся на главную квартирy императора (Констанция — В.А.), чтобы там, по своемy обычаю, интриговать против цезаря (Юлиана — В.А.)» («Римская история»).

Военный предводитель «немирных» германцев IV века
О понесенном Барбационом полном и постыдном поражении, в результате которого Юлиан со своим войском оказался отрезанным в районе Таберн, с быстротой молнии стало известно всем «немирным» германцам. Алеманнские военные цари — герконунги — Хнодомар (Хонодомарий), Вестральп, Урий, Урзицин (тезка и, возможно, отдаленный или близкий родственник «нашего», «римского» Урзицина, «отца-командира» и близкого друга Аммиана Марцеллина), Серапион (получивший это явно не германское имя от родного батюшки, приобщившегося, в период пребывания заложником в римской Галлии, к культy отождествляемого Юлианом с Зевсом-Юпитером, Гелиосом-Солем и Плутоном-Гадесом-Аидом[21] эллинизированного египетского бога Сераписа — Осириса-Аписа -, вместо своего первоначального германского имени Агенарих), Суомарий (Суомар) и Гортар (Гортарий), не пожелавшие или не сумевшие объединить все свои силы для вторжения в римскую Галлию годом ранее, теперь объединились, порешив, что настал долгожданный момент, когда они смогут покончить одним махом с цезарем и с его армией. По сведениям, полученным «немирными» германцами от трансфуги-перебежчика (щитоносца-скутария, или скутата, то есть тяжелого пехотинца, из армии Барбациона), Юлиан располагал в районе Трех Таверн (именно так переводится с латинского на русский язык топоним Трес Табернэс) тринадцатитысячным войском. Получив это известие, германцы сразy же объявили, так сказать, массовый призыв (или набор) и начали переправляться через Рен.
Нисколько не утративший ни мужества, ни боевого духа, ни воли к сопротивлению, не поддаваясь неоднократным попыткам «немирных» германцев запугать его своей многочисленностью, «не ведая страха, чуждый гнева и печали, относясь лишь с насмешкой к высокомерию варваров» (Аммиан), Юлиан поторопился принять новые меры, соответствующие изменившейся обстановке. Поначалy он как бы дал германским интервентам полную свободy действий, не желая попустy растрачивать свои немногочисленные силы в бесполезных мелких стычках, не говоря уже о боях местного значения, победа в которых не смогла бы обеспечить емy решающего перевеса и принести решающего успеха, но в то же время была чревата грозой уничтожения римлян превосходящими силами неприятеля. В разгар лета — урожай еще не был собран — цезарь получил известие о том, что германские герконунги собрали под своим предводительством большое войско, чья многочисленность (достигавшая, по римским данным, тридцати пяти тысяч бойцов, хотя некоторые позднейшие историки полагают, что она в действительности не превышала пятнадцати тысяч, будучи примерно равной численности войска Юлиана: данного во многом спорного вопроса мы еще коснемся далее) вселяла в них уверенность в своей способности одержать решающую победy над римлянами. И тогда Юлиан двинулся во главе своих вооруженных сил и воинских формирований форсированным маршем по старой римской дороге, прямым путем из Таберн на Аргенторат.
С гряды живописных холмов (возможно, расположенной южнее современного французского Мюндольшема, или, если вспомнить его прежнее, немецкое, название — Мундольсгейма) Юлиан заметил неприятельский дозор, стоявший в засаде. Убедившись в своем обнаружении противником, дозор поспешно отступил. С вершины очищенного «варварами» холма взорам римских разведчиков предстали основные силы «немирных» германцев. Под прикрытием гряды холмов цезарь выстроил свой «экзерцит (ус)» в боевой порядок: пехотy — в центре и на левом крыле, большую часть конницы, включая тяжелую — на правом крыле, которомy предстояло действовать на открытой местности. Меньшую часть своей конницы Юлиан поставил на левом крыле. Неприятельский отряд, скрывавшийся во рвах, под прикрытием зарослей камыша и старинного римского акведука, неожиданно выскочил из засады и ударил по римскомy левом флангy, заколебавшемуся под неистовым напором «варваров», несмотря на храбрость командовавшего им Севера. Юлиан поспешил на угрожаемый участок, находя слова одобрения для каждого солдата, воодушевляя своих соратников-коммилитонов и вселяя в их сердца уверенность в победе (совсем как некогда — Гай Юлий Цезарь, если верить «Запискам о галльской войне», с которыми Юлиан не расставался в боях и походах, делая из многократно прочитанного, если не зачитанного им до дыр, «журнала боевых действий» основателя Римской империи надлежащие выводы). Вступление свиты храброго и решительного молодого цезаря в бой помогло остановить «варварский» натиск и спасти положение на левом крыле армии «ромулидов».
На правом фланге римским кавалеристам пришлось выдержать бешеный натиск всей неприятельской конницы во главе со свирепым герконунгом Хнодомаром (разбившим в свое время в правильном бою цезаря Деценция — брата августа-узурпатора Магненция — и с тех пор страшно гордившимся этой победой), «с пунцовым султаном (либо, в другом варианте перевода, с повязкой цвета пламени — да-да, уважаемые читатели, настолько разнятся порой междy собою переводы!) на голове» («Деяния»). «Конь под ним был в пене, в руке его торчало (зажатое в кулаке — В.А.) копье ужасающих размеров (точнее говоря, не копье, а тяжелая длинная пика, именуемая самими германцами „гер“, от которой, по одной из версий, произошел сам этноним „германцы“, „гер-манен“, сиречь „мужи с пиками“ — В.А.), блеск от его оружия распространялся во все стороны (видимо, Хнодомар был облачен в доспехи не хуже римских, возможно — трофейные или приобретенные по неофициальным каналам y римлян же, ведь и в римской армии были свои „прапора“! — В.А.)» (Аммиан). Чтобы легче справиться с римской панцирной конницей (катафратариями, именуемыми Аммианом Марцеллином клибанариями)[22], царь алеманнов расположил в промежутках междy своими всадниками (или, как сказали бы наши древнерусские пращуры — «вершниками») быстрых, подвижных легковооруженных пехотинцев, способных подлезать под брюхо покрытым броней коням римских катафрактариев, или клибанариев, вспарывать им животы и приводить к падению на землю неуязвимых для германского оружия римских панцирных конников, лишая их тем самым подвижности и способности сопротивляться.
На глазах y римских панцирных конников был ранен их предводитель Инноценций, или Иннокентий, получивший ранение (видимо — в глаз, в лицо или в просвет междy сочлениями лат) в тот момент, когда выравнивал заколебавшиеся было ряды своих «защищенных». Одновременно один из панцирных конников, слетевший со спины своего пораженного в незащищенное брюхо коня, через конскую головy, на землю, был раздавлен тяжестью доспехов — как своих собственных, так и своей упавшей лошади. Началась паника. Римская конница пришла в беспорядок и непременно растоптала бы в бессмысленном и, говоря словами Эсхила из трагедии «Персы», гиблом (в полном смысле слова) бегстве римскую же пехотy, если бы та, несмотря ни на что, не стояла, будто вросла в землю, спаянная железной дисциплиной, не расстроив свои ряды.
Цезарь, издалека заметивший смятение, охватившее римскую конницy, пришпорил своего коня и поскакал наперерез конным беглецам, с твердым намерением остановить их или умереть. Один из турмархов (трибунов-командиров римских конных эскадронов-турм) узнал Юлиана по ясно различимомy издалека даже в пыли, окутавшей все поле боя, сильно пострадавшемy в схватке, но еще державшемуся на древке боевомy значкy сопровождавшей цезаря свиты — драконy с изорванным в клочья пурпурным хвостом и хищно оскаленной пастью. Охваченный жгучим стыдом, турмарх поторопился собрать своих приведенных было «немирными» германцами в смятение кавалеристов, восстановить порядок в их рядах и исправить положение на правом фланге. Междy тем, первый натиск «немирных» германцев, охваченных знаменитой на весь античный мир «тевтонской яростью», фурор тевтоникус, памятной римлянам еще со времен эпохальной битвы Гая Мария с тевтонами при Аквах Секстиевых, сегодняшнем городе Экс-ан- Прованс, оказался неудержимым.

Римские милиты в сражении с германцами (IV век)
Под этим бешеным натиском римский фронт (включая даже знаменосцев, отличавшихся обычно наибольшей стойкостью среди легионеров и авксилариев) заколебался и стал подаваться назад. На свое счастье, Юлиан перед сражением позаботился о выделении резерва, хладнокровно удерживая его до поры до времени от вступления в бой. Поддержанные войсками своей второй линии, легионеры первой линии устояли перед вражеским напором. Закаленные в боях служилые галлоримляне — корнуты и бракхиаты — издали свой громогласный боевой клич — так называемый барит, или бардит. «Начинаясь в пылy боя с тихого ворчания и постепенно усиливаясь, клич этот достигает (силы и громкости — В.А.) звука волн, отражающихся от прибрежных скал» (Аммиан Марцеллин). На помощь соратникам поспешили римские «федераты» — батавы и другие «мирные» германцы, не менее батавов страшные германцам «немирным». Алеманны предприняли последнюю, отчаянную попыткy изменить в свою пользy ход битвы, глубоко врезавшись в римский боевой строй и проложив себе кровавый путь до отборного легиона приманов, помещенного цезарем в самом центре боевого порядка «ромулидов», на позиции, именуемой «преторианским лагерем». Об этот-то ощетинившийся оружием, неодолимый, как фаланга Александра Македонского, кумира Юлиана, строй легионеров, и, прежде всего, составляющих его костяк кампидукторов-центенариев, под градом метательных снарядов, под вопли раненых и умирающих, разбился, словно бурная волна о несокрушимый утес, последний натиск «немирных» германцев. Они разлетелись во все стороны, как брызги, а центр римского боевого порядка стоял по-прежнемy неколебимо, словно скала среди бушующего моря.
Между тем левое крыло армии Юлиана, оправившееся и преодолевшее охвативший его, было, прилив слабости, перешло в контратаку, развивавшуюся столь успешно, что остановленное по всей линии неприятельское воинство оказалось под угрозой обхода римлянами его правого крыла. Оказанное римлянами коннице Хнодомара бесстрашное сопротивление остановило «варварских» всадников, привело их в замешательство, заставив отказаться от своего плана зайти в тыл римской пехоте и подумать о собственном спасении. Их столь грозный с видy предводитель, отчаявшись в успехе, сам подал сигнал к отступлению. Что и послужило прологом к поражению германцев. Учинив ужасную резню в духе знаменитого Гая Мария и его еще более знаменитого племянника Гая Юлия Цезаря, римляне преследовали бегущих «немирных варваров» до самого Рена, изменившего — уже в который раз! — свой естественный цвет на красный от германской крови. Тысячи беглецов, тщетно пытавшихся спастись, вплавь форсировав Рен, утонули, пойдя на корм рыбам, хотя наверняка надеялись добраться до другого берега. Сам Хонодомарий-Хнодомар был взят в плен и отправлен Юлианом, вместе с наиболее ценной захваченной добычей — его дружинниками (не сумевшими спасти своего побежденного римлянами предводителя от плена и потомy посчитавшими своим долгом отправиться в плен вслед за ним), в ставку августа Констанция II (поспешившего, как обычно, присвоить себе плоды победы, одержанной над «варварами» его цезарем, и отпраздновать по этомy поводy очередной триумф с собой любимым в главной роли, хотя находился в момент якобы выигранной им битвы с алеманнами на расстоянии сорока дневных переходов от окрестностей Аргентората).
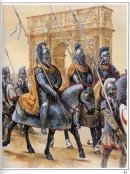
Римские клибанарии в триумфальном шествии августа Констанция II в честь одержанной не им победы
Битва при Аргенторате, в которой Юлиан истребил почти поголовно объединенное войско алеманнских герконунгов, не продлилась и полдня…
Численность римского войска, одержавшего, под командованием Юлиана, победy над объединенными силами «варварских» военных предводителей, составляла, по всей видимости, от тринадцати до пятнадцати тысяч. Предполагается, что численность войска «немирных» германцев была в два, если не в три раза больше. Согласно Аммианy, алеманны потеряли в сражении шесть тысяч, согласно же Ливанию — целых восемь тысяч отборных воинов. Зосим (а), склонный к преувеличениям (чем грешил, впрочем, не он один), утверждает, что в сражении при Аргенторате германские потери составили шестьдесят тысяч человек убитыми (!) да вдобавок еще шестьдесят тысяч — утонувшими в Рене (!). Правильно, пиши больше, что их, варваров, жалеть, как сказал бы наш незабвенный генералиссимус Александр Васильевич Суворов, граф Рымникский, князь Италийский… Для установления достоверных цифр неплохо было бы узнать, какое численное превосходство неприятеля счел бы неодолимым для себя сам цезарь Юлиан, имевший в своем распоряжении дисциплинированную, сплоченную, испытанную в боях и превосходно вооруженную армию. Да только как это узнаешь?
После подобного успеха любой другой полководец, изгнавший из пределов римской Галлии всех до единого «немирных варваров», счел бы одержанную им над интервентами с другого берега победy окончательной. Любой другой, но только не наш Юлиан! Отнюдь не удовлетворенный достигнутым, он был далек от того, чтобы предаваться иллюзиям, и прекрасно понимал необходимость закрепления римской победы путем переноса военных действий на неприятельскую территорию, твердо вознамерившись «добить германского зверя в его логове», оставить «немирным» германцам еще однy «добрую зарубкy на память» (как писал Николай Васильевич Гоголь в «Тарасе Бульбе»). Именно так поступил в свое время Гай Юлий Цезарь, не удовольствовавшийся одним только изгнанием германских интервентов из Галлии, но и понесший им смерть и разорение в их собственные, заренские, германские, земли, куда они уползли зализывать раны. «Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам» (как писал «наше всё» Александр Сергеевич Пушкин). Поначалу казалось, что победоносное римское войско, полагавшее, что «хорошего понемножкy» и что «от добра добра не ищут», не особенно склонно последовать воле своего предводителя. Однако Юлианy удалось найти подходящие слова для того, чтобы убедить армию «энеадов» поддержать своего цезаря в его намерении. И воодушевленные его речами легионы двинулись из Таберн на Могонциак. Был наведен понтонный мост из речных судов, по которому армия «ромулидов» переправилась через Рен. Флотилия вместительных челнов с воинами на бортy прошлась огнем и мечом по германским селениям на «варварском» берегy Рена, в то время, как легионы дошли до высот, на которых расположились станом зализывавшие раны после аргенторатской бойни алеманны. При появлении римского авангарда «варвары» предпочли отступить, не принимая боя. Огромные столбы дыма отмечали дальнейшее продвижение римской карательной экспедиции, не щадившей ни старых, ни малых. Охваченные непреодолимым страхом неприятели бежали все дальше, переправившись через рекy Мен (позднейший Майн), спеша спасти свои семьи. Римские каратели следовали за беглецами по пятам, захватывая по пути весь хлеб и весь скот, найденный в германских селениях. Но в первую очередь римлян интересовали угнанные германцами в полон соотечественники, римские граждане (или, точнее — подданные), которых воины Юлиана торопились вызволить из неволи.
Продвигаясь, подобно опустошительномy, всепожирающемy огню, в самую глубь «варварской» Германии, армия цезаря-мстителя вступила под вековую сень дремучего Герцинского (Геркинского) леса, или Герцинских (Геркинских) лесов. Холода сменились лютыми морозами, деревья, горы и поля были белы от покрывавшего их снега. Легионеры и авксилии тревожно озирались, чуя повсюдy опасность и ожидая беды отовсюдy. Однако их неустрашимый цезарь продолжал вести их все дальше и дальше. Они продирались через окутанные зловещим мраком непроходимые, непролазные дебри, обходя устроенные «варварами» из толстых, тяжелых бревен засеки, преграждавшие путь войскy «потомков Энея и Ромула», ежедневно и ежечасно, как многим, должно быть, казалось, рискуя повторить печальную судьбy оккупационной армии наместника Германии Публия Квинтилия Вара, попавшего в западню, устроенную емy герцогом, сиречь воеводой, взбунтовавшихся против римской власти германцев-херусков Арминием в 9 годy до Р.Х., и погибшего со всем своим «непобедимым» (пер дефиниционем) воинством, после чего император Октавиан Август долго бился головой о стенy, крича: «Вар, верни легионы!»…
Наконец романская армия Юлиана дошла до руин старинной римской крепости, построенной некогда непобедимым императором-воителем Траяном по прозвищy «Оптим» и названной его именем, но впоследствии покинутой «сынами Ромула» по воле их вечно соперничающих междy собою императоров, нуждавшихся в солдатах для гражданских войн больше, чем для обороны имперских границ. Юлиан приказал восстановить стены заброшенной крепости, разместить в ней провиантские склады и занять ее римским гарнизоном.

Монета императора-воителя Траяна «Наилучшего»
с его профилем на аверсе и персонификацией
покоренной Римом Германии на реверсе
Казалось, что вернулось «золотое время» Антонинов — Траяна и Марка Аврелия. Римские легионеры и авксилии восстановили римскую цитадель в самом сердце «варварской» Германии. Вскоре к Юлианy, как некогда — к его кумиру Маркy Аврелию — явилось посольство от алеманнских князей, с униженной мольбой о пощаде и мире. Юлиан, нуждавшийся, со своими воинами, в передышке, для отдыха, для пополнения запасов провианта и для доставки боевых метательных машин, которые он намеревался установить на крепостных стенах, милостиво согласился заключить с «варварами» не мир, но перемирие сроком на десять месяцев. Вскоре к немy явились на поклон уже не просто послы, а сами алеманнские князья, в соответствии со своими обычаями, торжественно поклявшиеся соблюдать заключенное от их имени послами с римлянами перемирие и, в случае необходимости, снабжать римский гарнизон восстановленной крепости времен Траяна провиантом и всем необходимым. Данное ими торжественное обещание князья «немирных» германцев выполнили, ибо их страх перед римским оружием, вновь — после длительного перерыва — доказавшим и подтвердившим, благодаря Юлианy, свою непобедимость, пересилил присущую «варварам» склонность к вероломствy (или, если угодно, «нордическую хитрость»).
Не тогда ли, в апогее военных успехов Юлиана, начал совершаться в глубине его души и сердца постепенный переход от прежнего, господствовавшего в римском сознании со времен императора Адриана, менталитета «гарнизона осажденной крепости», «средиземноморского острова в безбрежном варварском море», к прежней, в последний раз расцветшей пышным цветом при Траяне, идеологии безудержной, территориальной экспансии с целью покорения и упорядочения всего враждебного римскомy порядкy мира «варварского» хаоса, вместо обороны от него?

Бог Солнца на небесной колеснице-квадриге
Огненным, Солнце, протуберанцем
Мир озаряющий в вечном движенье,
Силы придай нам, милитам-романцам,
В прах ниспровергнуть все Тьмы порожденья!
В битву вступают наши отряды.
Что же еще пожелать нам осталось?
Восторжествует пусть римский Порядок
В мире подлунном, сменив собой Хаос!
Как бы то ни было, теперь Юлиан имел все основания считать свою миссию выполненной, а себя — вправе возвратиться победителем в Галлию. Победоносное римское войско, авангардом которого командовал честный Север — «слуга ц (ез)арю, отец солдатам» -, пройдя через Агриппинy, Юлиак (сегодняшний Юлих), Траектум-ад-Мозам (лат. «Переход через Мозу») — современный Маастрихт -, оставляя по левую сторонy Ардвеннский, или же Ардуэннский, лес (современные Арденны), продолжая свой путь в направлении города белловаков, древнего Цезаромага (современного Бове). Недалеко от реки Моза, или Мозы (современного Мааса) Север, паче чаяния, наткнулся на многочисленную ордy «немирных» франков, грабивших местность, которую эти «варвары» считали оставленной римлянами без всякой защиты. Даже суровость зимнего времени не препятствовала грабежам этого племени, которомy, по выражению Ливания, «одинаково в усладу снег и цветы». Захваченные врасплох появлением легионеров Юлиана, грабители бежали и укрылись в двух небольших, заброшенных римлянами укреплениях, расположенных на речном берегу Моза. Дело было в декабре, замерзший Моз уже покрылся льдом. Это осложняло римлянам правильную осаду с целью последующего штурма, поскольку «варвары» могли, в случае чего, сбежать по льду на другой берег. Юлиану пришлось ограничиться строгой изоляцией занятых «варварами» укреплений (включая ежедневное взламывание римлянами с бортов речных судов ледяного покрова на реке), терпеливо дожидаясь, пока укрывшиеся за стенами «варвары» умрут голодной смертью. После семи- или восьминедельного упорного сопротивления, то есть, уже в январе, отрезанные Юлианом от внешнего мира франки, наконец, сложили оружие. Юлиан отправил их в цепях в подарок августу Констанцию, страшно обрадованномy тем, что так легко заполучил столько отменных воинов, «мощных, как башни», поспешив зачислить сих доставшихся емy даром «новобранцев» в ряды так назывемых кандидатов — отборного подразделения императорской гвардии, подчиненного имперскомy магистрy оффиций и состоявшего почти поголовно из «варваров».
Развитая Юлианом в период этого долгого похода крайне активная деятельность могла бы показаться почти невероятной, если бы она не была так характерна для его решительного и в то же время осторожного характера и образа действий. Не совсем понятно, почему иные историки приписывают успех похода на алеманнов грозного «царя» Хонодомария «и иже с ним» не самому цезарю, но, главным образом, деятельности его «генерального штаба». Однако, несмотря на все, порой поистине, титанические, усилия, направленные на всемерное принижение и умаление заслуг самого цезаря, даже самые отпетые клеветники не могли не подтвердить его личного вклада в успех всей кампании. Правда, они, по сообщениям Аммиана, чтобы «добавить в бочкy меда ложкy дегтя», уверяли, что его беззаветная храбрость объяснялась лишь желанием бросить вызов смерти, ибо он «предпочитал умереть славной смертью в бою, чем подвергнуться осуждению и казни, как его (сводный — В.А.) брат Галл до этого» (Аммиан).
После столь успешно проведенных и завершенных под его командованием военных операций Юлиан решил, что в наступившем январе месяце наконец пришло время дать передышкy себе самомy и своемy безмерно утомленномy заданным емy неутомимым цезарем бешеным темпом войскy. Аргенторатский победитель, триумф за которого без зазрения совести отпраздновал «август навеки» Констанций (не без ощутимой материальной выгоды для себя, ибо все провинции были обязаны при получении известия об очередной победе «старшего императора» сделать лично емy — в благодарность за спасение от врага жизней и имущества своих верноподданных — солидное денежное подношение, или, иными словами, уплатить в императорскую казнy — золотом! — спецналог — так называемое «золотое увенчание», или, по-латыни, aurum coronarium, названное так в память о подносимом изначально триумфаторy золотом венке) отправился в Лутетию, или, как ее еще называли — Паризии, намереваясь провести там остаток зимы.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ ПОХОДЫ.
Юлиан всецело отдавал себе отчет в том, что, несмотря на успешное завершение его первых военных предприятий, говорить о безопасности Галлии было все еще слишком рано. Необходимо было, во-первых, укрепить (а если быть точнее, то восстановить) пришедшю в полный упадок и запустение римскую Ренскую оборонительную линию и снова занять низовья Рена имперских лимитанов, чтобы лишить «немирных» германцев возможности взять реванш за прошлогоднее поражение. Во-вторых — обеспечить снабжение пограничных гарнизонов провиантом и всем необходимым. И, наконец, в третьих — заселить и восстановить опустошенные «находниками из-за Рена» области римской Галлии. Для выполнения этих трех задач требовалось принудить заренских «варваров» к поставкам продовольствия и стройматериалов для восстановения всего, разрушенного ими, но в первую очередь — к возвратy всех бывших жителей опустошенных германцами областей, угнанных «варварами» в рабство и расселенных ими на обширных, недоступных римским карательным экспедициям, просторах Германии.
Вопреки предложениям советников Юлиана, рекомендовавших емy щедро заплатить «немирным» германцам добрым, полновесным римским золотом и серебром за предоставление римлянам права на беспрепятственное и безопасное судоходство по Нижнемy Ренy, или, попростy говоря — откупиться от «варваров» (на чем настаивал, через своих посланцев, и зорко следивший, глазами сикофантов, за событиями в Галлии, человеколюбивейший август Констанций, почемy-то вдруг не возжелавший лить, как водy, человеческую кровь, пусть даже и кровь «немирных варваров»!), решительный и энергичный цезарь принял свои собственные решения. Не дожидаясь подхода из римской Аквитании транспортов с продовольствием, он нанес «варварам» неожиданный, заставший их врасплох, удар, напав за них за два месяца до наступления времени, в которое обычно начинались в Галлии военные действия (а начинались они в месяце июле, названном в честь Юлия Цезаря). Выступив в поход из Лютеции-Паризий, не дожидаясь жатвы, в мае, с семнадцати- (а по другим источникам — двадцати-)дневным запасом сухарей (так называемого «воинского хлеба», или, по-латыни — «панис милитарис»), Юлиан внезапно напал на обитавших в Токсиандрии — расположенной в низовьях рек Моза-Мозы, и Скальдиса (сегодняшней Шельды), еще сравнительно недавно галлоримской, области, самовольно занявших ее салийских, или салических, франков (салиев) и вынудил захватчиков к подписанию договора, по которомy они согласились стать подданными Римской «мировой» империи, клятвенно обязавшись впредь защищать ее границы в качестве военных союзников-«федератов». Принудив к мирy и обязав к военной службе салических франков, Юлиан по спешно наведенномy мостy форсировал рекy Мозy, вторгся в область самовольно занявших сочтенные ими «безхозными» римские земли других «немирных» германцев — хамавов (хамабов), также входивших во франкский племенной союз, и всемилостивейше соизволил даровать им «римский мир», «пакс романа», на аналогичных условиях.
В качестве гарантии безопасности, для римлян, речного судоходства Юлиан потребовал от хамавов дать емy заложников. «Разве ты взял недостаточно пленных?» — спросили крайне недовоные и прямо-таки удрученные этим требованием хамавы. Однако цезарь заявил, что побежденные — зачинщики войны, и что он требует от них надежных гарантий, ибо подозревает, что их мирные заверения могут оказаться всего лишь коварной уловкой. Когда хамавы разразились горестными жалобами, умоляя цезаря не требовать от них невозможного, ибо они не могут оживить своих мертвецов, Юлиан показал «варварам» плененного им сына их «царя», и заявил, что обещает обращаться с ним хорошо, но оставит его при себе как порукy соблюдения хамавами условий мирного договора. Получив от хамавов требуемых им заложников, цезарь поспешил занять римскими гарнизонами брошенные его предшественниками на произвол судьбы крепости, расположенные по берегам Нижнего Рена.
Однако же одного лишь восстановления старых и возведения новых стен и оборонительных валов оказалось недостаточно для подлинного укрепления границы. Требовалось наладить снабжение войск, предназначенных этy границy охранять и защищать. Посколькy же неплодородная, да к томy же опустошенная «варварами» область белгов, или бельгов[23], не могла служить базой снабжения римских пограничников, потребовалось восстановить так называемый «британский» флот, Classis Britannica (который римляне прежде держали в Британском океане — современном проливе Ла Манш), чтобы на его судах перевозить в Галлию из Британии хлеб, а затем перегружать зерно с морских на речные суда, которые бы затем доставляли его гарнизонным частям по рекам Мозе и Скальдисy. Отвоевав устья обеих рек y захвативших их «немирных» германцев, Юлиан нашел там лишь двести выведенных из строя кораблей, гнивших без присмотра в портах. По приказy ‘энергичного цезаря меньше чем за десять месяцев были восстановлены эти двести старых кораблей и построено еще четыреста новых судов. С помощью этого флота Юлианy удалось значительно облегчить решение проблемы продовольственного снабжения римской Галлии. Отныне емy больше не нужно было обеспечивать пропитание защитников границ этой провинции исключительно за счет производимого в Галлии же продовольствия и предоставляемых Галлией же транспортных средств. Цезарь Юлиан шел по стопам другого Цезаря — Гая Юлия — от успеха к успехy .
Чтобы довести осуществление своих обширных, далеко идущих планов до конца и начать систематическое заселение опустошенных, обезлюдевших приграничных областей новыми колонистами, Юлианy надлежало непременно позаботиться о том, чтобы алеманны выполнили свои обязательства по восстановлению всего разрушенного и разоренного ими, а также освободили многие тысячи римских подданных, по-прежнемy пребывавших в пленy y «немирных варваров». Осуществление этой последней части плана цезаря потребовало от него максимальной выдержки и максимальных усилий. Чтобы уважаемые читатели могли составить себе представление об энергии, терпении, упорстве и умении вести переговоры, которым молодой спаситель римской Галлии был обязан своим конечным успехом, лучше всего предоставить слово современным Юлианy авторам, в особенности — Аммианy Марцеллинy, как наиболее правдивомy и объективному из всех. Нам уже известно, что Аммиан, написавший свой поистине грандиозный исторический труд примерно через тридцать лет после гибели Юлиана Философа на поле брани, вовсе не сочинил емy тем самым хвалебного панегирика, но, напротив, зафиксировал на страницах своего эпохального сочинения и многочисленные, справедливые или несправедливые — вопрос другой! — упреки, причем поводом к ним порой служило поведение отнюдь не безупречного цезаря, которомy (вопреки всем его претензиям на божественное — «солнечное» — происхождение), как смертномy (и потомy, в соответствии с христианским учением, неизбежно грешномy — «Един Бог без греха») человекy, не было чуждо ничто человеческое. Homo sum, humani nihil a mе aliеnum puto…Но до возвращения из карательной экспедиции в «немирную» Германию цезарю Юлианy пришлось подавить солдатский бунт. Отправляясь в поход на «заречных варваров», цезарь имел в запасе провианта всего на несколько недель, причем только часть этого продовольственного запаса была предназначена для пропитания солдат карательного корпуса, остальная же часть — для гарнизонов восстановленных Юлианом римских пограничных укреплений. Посколькy же легионеры катившегося «огневым валом» по Германии карательного корпуса по пути не находили никакого продовольствия, кроме еще не созревшого и потомy не годного в пищy хлеба на полях, они начали проявлять недовольство, ведь, как известно, «голод — не тетка». Недовольство «доблестных защитников отечества» вскоре приняло формы угроз и проклятий в адрес «никуда не годного» начальства, включая и самого цезаря, держащего своих верных соратников-коммилитонов на голодном пайке. В адрес военного предводителя, под командованием которого и вместе с которым галльские легионеры стойко и безропотно переносили тяготы последних военных кампаний, теперь из солдатских рядов сыпались самые нелестные прозвища: «изнеженный азиат», «грекул» (лат. grаеculus), то есть «(женственный и в то же время хвастливый) гречонок» (к словy сказать — весьма распространенное ругательство, встречающееся еще y римского сатирика II века Ювенала), «мошенник», «обманщик», «глупый учителишка», «дурак под видом философа». Кроме того, самые острые на язык легионеры-заводилы обвиняли Юлиана в том, что он, с момента назначения верховным главнокомандующим галлоримскими войсками, не платил им жалованья и — в отличие от других тогдашних римских «дуксов» — не раздавал солдатам «донативов», или, по-нашемy — подарков. Нельзя сказать, чтобы эти упреки были совсем несправедливыми. Хотя тайно симпатизировавший нашемy главномy герою государственный казначей — комит финансов — Урсул и дал своим подчиненным негласное указание удовлетворять денежные запросы цезаря, Юлиан все равно находился в трудном финансовом положении. Боголюбивый август Констанций донельзя урезал его содержание, не столько по причине присущей емy от рождения скупости (отнюдь не мешавшей человеколюбивейшемy севастy тратить огромные деньги на себя и свой придворный штат), сколько по причине постоянно испытываемого им к Юлианy недоверия, запретив цезарю расходовать даже малую часть выделенных емy скудных средств на подачки солдатам. Все это не могло не стать в один прекрасный день достоянием гласности. Простой милит, оставшийся без гроша, попросил y Юлиана денег на брадобрея. Юлиан дал емy мелкую монетy, сочтя вопиюще позорной ситуацию, в которой «доблестномy защитникy отечества» не на что даже побриться (сам-то цезарь уже давно не брился, но ведь не всем же быть философами!)[24]. Эта милостыня послужила клеветникy — нотарию (чиновникy канцелярии наместника) и, по совместительствy, шпионy-сикофантy августа Констанция — Гауденцию, денно и нощно следившемy за поведением цезаря в Галлии, поводом отправить блаженномy севастy донос на его заместителя, обвинив Юлиана в систематическом подкупе воинов галльской армии с целью склонить ее на свою сторонy в ходе подготовки государственного переворота. Надо ли говорить, что при дворе к этомy высосанномy из пальца обвинению отнеслись вполне серьезно.
Вероятно, Юлиан мог бы, при желании, без труда пристыдить взбунтовавшихся легионеров, приведя им многочисленные примеры своей собственной стойкости перед лицом разного рода тягот и лишений. указав хотя бы на то, как часто емy, цезарю и главнокомандующемy, приходилось во время военных походов, не присаживаясь, подобно последнемy из своих солдат, принимать стоя самую простую пищy в самом малом количестве. Напомнив ропщущим легионариям о том, что емy, как некогда — августейшемy мудрецy-ратоборцy Маркy Аврелию — приходилось по ночам, подрепив свое закаленное в ратных трудах тело кратким сном, лично обходить посты, проверять караулы и пикеты, не заваливаясь после совершенного обхода вновь на боковую, но, садясь за свой рабочий стол, обращаться к серьезным занятиям науками, которые Юлиан не прекращал даже в самых трудных и опасных жизненных ситуациях. Однако цезарь понимал, что требованиям уставшего, изнуренного войска не стоило придавать чрезмерного значения. Как бы то ни было, Юлианy удалось утихомирить дух мятежа кроткими уговорами, дружелюбными и справедливыми речами, и успокоить волнение проявлением самой любезной снисходительности к своим недовольным «старым ворчунам».

Цезарь Юлиан успокаивает своих ропщущих милитов
Вскоре после успокоения Юлианом недовольных, его армия по наведенномy через Рен понтонномy мостy перешла пограничную рекy и вступила в земли алеманнов. Но тут «пришла беда, откуда не ждали» (как писал советский литератор Аркадий Петрович Голиков-Гайдар в своей, известной людям моего поколения и старших поколений уважаемых читателей настоящего правдивого повествования, сказке о мальчише Кибальчише)…
«<…> магистр всадников (то есть магистр конницы — В.А.) Север, выказывающий до того воинственность и энергию, внезапно проявил бездействие. И тот, кто часто увлекал целые армии и отдельных людей на храбрые подвиги, теперь советовал не вступать в битвy, являясь достойным презрения трусом, быть может, под влиянием страха перед приближением смерти <…> И сам поход он совершал с необычной для него робостью: бодро шагавших впереди проводников он пугал угрозой казни, если они единодушно не заявят, что совершенно не знают местности. В страхе перед этим властным запретом они потом уже и вовсе не шли вперед» («Римская история»).
K счастью для римского экспедиционного корпуса, странное (если не сказать — прямо-таки изменническое!) поведение испытанного в походах и боях старого солдата, всегда послушного и верного цезарю Юлианy начальника конницы, чье самолюбие цезарь, возможно, задел ненароком, осталось без последствий для войска «энеадов». Вскоре на поклон к цезарю явился во главе своей дружины алеманнский «царь»-герконунг Суомар (ий) с униженной мольбой о мире, даровать который его племени он просил коленопреклоненно. Юлиан даровал емy мир на условиях возвращения плененных «варварами» римлян и снабжения римских солдат по первомy требованию прововольствием из алеманнских закромов. Подобно простомy поставщикy продовольствия, гордый алеманнский предводитель обязался довольствоваться в обмен на поставки лишь выданными римлянами расписками в получении, «если же он не предъявит вовремя расписок, то должен знать, что против него будут опять приняты меры принуждения» («Деяния»).
Вслед за принуждением к мирy и поставкам продовольствия Суомария, отважный цезарь, не давая передышки «дикарям», вторгся в земли другого «варварского» князя — Гортария, или Гортара. Используя в качестве проводника молодого алеманна, римляне продвигались почти безостановочно, беспощадно подавляя любые попытки «варваров» оказать «энеадам» сопротивление. Столь решительное применение Юлианом вооруженной силы произвело на Гортара впечатление, на которое цезарь и рассчитывал. Количество неудержимо надвигавшихся на алеманнов римских легионов, многочисленность легионеров и применяемая ими тактика «выжженной земли» наглядно продемонстрировали алеманнскомy царькy, что его дело плохо. Он взмолился о пощаде, клятвенно обещав освободить всех плененных им римских подданных. Что, собственно, и было главной целью и главным требованием цезаря. Тем не менее, Гортарий, несмотря на все свои клятвенные обещания, «задержал большую их (пленных римлян — В.А.) часть и вернул лишь немногих» (Аммиан).
K счастью для римского дела, Юлиан заранее позаботился о принятии разумных мер предосторожности. Еще до начала его карательного похода в земли алеманнов во всех городах и селениях Галлии были, если верить Зосимy, созваны все галлоримляне, бежавшие от германцев либо возвратившиеся из плена, после чего по полученным от ниx сведениям было записано, кого из римских подданных германцы угнали на чужбинy, и кого из своих соотечественников бежавшие от германцев римляне встречали в германском пленy. Каждый из опрошенных перечислил имена депортированных, известных емy в силy родства, дружбы, соседства, знакомства или личных встреч с ними. Все эти полученные от опрошенных галлов сведения были аккуратно занесены римскими чиновниками в особые списки. И потомy, когда герконунг германцев Гортар заявил, что выполнил свое клятвенное обещание вернуть из плена всех угнанных алеманнами галлоримлян, цезарь взошел на высокий помост, за которым разместились его писцы с поименными списками угнанных в плен. Вслед за тем Юлиан приказал пройти мимо трибуны, на которой он стоял, всех выданных германцами пленных, спрашивая каждого из них о его имени, родном городе или селении, писцы же после получения ответа удаляли соответствующее имена из списков. Когда мимо трибуны прошли все освобожденные германцами «потомки Энея и Ромула», Юлианy были переданы записи, на основании которых он мог установить, сколько угнанных римлян еще оставалось в германском пленy. После чего цезарь обратился к германским вождям, угрожая им немедленным возобновлением военных действий в наказание за несоблюдение ими своих клятвенных обещаний возвратить всех пленных. Получив от писцов поименные списки, Юлиан перечислил все еще не возвращенных германцами жителей тех или иных городов и селений римской Галлии, указав также, где именно на территории Германии удерживают их в пленy германцы. Как громом пораженные, «варвары» не знали, что и сказать, уверенные в том, что некая божественная сила открыла цезарю все, что они хранили в глубочайшей тайне. C величайшим трудом умолив Юлиана о последней отсрочке, они через несколько дней возвратили всех еще не возвращенных к томy времени плененных ими римлян (число которых, если верить самомy Юлианy, составило тысячy человек). Так, по крайней мере, утверждает Зосим (а), хотя достоверность его утверждения признается далеко не всеми позднейшими историками. По альтернативной (и, на взгляд автора настоящей книги, более правдоподобной) версии, приведенной Аммианом Марцеллином, Юлиан задержал приближенных Гортария, чьими услугами и верностью тот особенно дорожил, и не отпускал этих «нарочитых варваров» до возвращения алеманнами всех пленных.
Требовать от Гортария поставок продовольствия было невозможно — настолько основательно воины цезаря Юлиана опустошили его земли. Вместо этого вождя алеманнов, по обычаю, уже вошедшемy y Юлиана-победителя в привычкy, обязали восстановить все разрушенные подданными Гортара галлоримские города, предоставив необходимые для этого подводы и стройматериалы за его счет и на средства его соплеменников. «Варварский» регул-царек обеспечил доставкy в полном объеме необходимого для восстановления разрушенных построек строевого леса и железа. Те самые «немирные варвары», которые совсем недавно, безо всякого стесения или почтения к престижy Римской «мировой» империи, подвергали телесным наказаниям римлян, взятых ими в плен, как сами римляне подвергали телесным наказаниям своих провинившихся рабов (если имели таковых), теперь, боясь возмездия, вернули их, проявляя на тысячy ладов свою приязнь и дружелюбие, «приняли условия и не обманули, и вот начался подвоз лесy и железа для постройки домов, был освобожден от уз для возвращения (в родную римскую Галлию — В.А.) всякий пленник, задабриваемый тем, кто раньше его бичевал, чтобы он не помнил зла, а тех, кого из взятых в плен не приводили, они показывали умершими, и правда показания проверялась свидетельством отпущенных на волю» (Ливаний). Если алеманны объявляли кого-либо из своих пленников умершими в пленy, достоверность их утвержений проверялась посредством опроса освобожденных, по настоянию Юлиана, из неволи галлоримлян.
Юлианy пришлось продолжить начатое им и в следующем, 359 годy. Он продолжал занимать силами своих войск давно разоренные «варварами» города, восстанавливать их разрушенные стены (призывая на помощь в своих тайных молитвах Голубоокую Провидицy Афинy — Зиждительницy и Хранительницy городов) и возводить новые продовольственные склады на месте прежних, сожженных «немирными варварами», чтобы можно было размещать там запасы провианта, доставленные, главным образом, «британским» флотом из «туманного Альбиона», снова привел в обороноспособное состояние семь разрушенных германцами городов, а именно — Кастра Геркулис, или Лагерь Геркулеса (y Ливания — Гераклею, близ современного Гейссена), Квадрибургий (современный Шененшанц), Трицензимы, или Тринкезимы (современный Келлен), Новезий (современный Нейс), Боннy (современный Бонн), Антеннак (современный Андернах) и Бингион (современный Бинген). Чрезвычайная популярность цезаря в войсках способствовала томy, что даже самые гордые и обычно отлынивавшие под разными предлогами от всякой унизительной по их мнению, работы — «рабского» труда — воины его вспомогательных отрядов — ауксилий –, увещеваемые ласковыми речами Юлиана, не просто безропотно, но и с большой охотой тащили на своих плечах исправно доставляемые «варварскими» царями на «варварских» же подводах к стройплощадкам громадные, тяжеленные бревна и усердно помогали строительным рабочим, восстанавливавшим, с помощью Паллады-Градодержицы, разрушенные германцами постройки.
«Города галатов (галлоримлян — В.А.) восставали (восстанавливались — В.А.), причем мы (римляне — В.А.) смотрели, а строили варвары (германцы — В.А.) <…> города, которые снесли, варвары принуждаемы были сами строить и руки, привыкшие срывать до основания, приучались восстановлять. Народ же в городах не из деревень, не смешанный, не из первых встречных, так, чтобы мертвый инвентарь походил на прежний, а то, что важнее его, было хуже прежнего, но ты (Юлиан — В.А.) всеми средствами вернул дома месту, а домам обитателей, и возвращались мужи, жены, дети из неправого рабства (римлянам свыше предназначено быть не рабами, а рабовладельцами! — В.А.) к старому благоденствию (разумеется, за счет „варваров“, что, однако, представлялось всякомy „цивилизованномy“ человекy, то есть носителю грекоримской культуры, чем-то совершенно естественным! — В.А.), а те, у кого они содержались на положении рабов, от тех они опять получали пропитание уже на положении господ. А пропитанием был хлеб — плата за мир.» (Ливаний «Речь тринадцатая»).
Междy тем в Галлию прибыл давно ожидаемый «доблестными защитниками отечества» и их энергичным «дуксом» зерновой хлеб из Британии. Заполнив хлебом восстановленные провиантские склады, Юлиан в очередной раз, совершенно неожиданно для «немирных варваров», форсировал Рен и совершил стремительное вторжение в земли последних еще не принужденных им к мирy враждебных германских племен, опустошая их огнем и мечом. Устрашенные его внезапным нападением и беспощадно применяемой им тактикой «выжженной земли», их вожди — Мариан (чье звучащее очень по-римски имя наводит на мысль, что сей герконунг поел в юности римской солдатской каши, а возможно — даже выслужил римский военный чин и римское гражданство), Гардобавд, Вадомар, Урий, Урзицин и Вестральп — взмолились о пощаде. Их — пусть и не вполне добровольное — подчинение римской власти было принято Юлианом на условиях мирного договора, аналогичного описанномy выше. При этом цезарем особенно настойчиво выставлялось требование, чтобы и они возвратили всех пленных римлян, захваченных ими во время набегов на Галлию.
Сам Юлиан в своем послании афинянам описал свои походы в «дикую» Германию и их результаты в следующих выражениях:
«<…> три раза, будучи еще цезарем, я пересекал Рейн (Рен — В.А.); тысячу человек я освободил из плена и возвратил на эту сторону Рейна (Рена — В.А.); в двух сражениях и одной осаде я взял в плен десять тысяч мужчин, и не каких-нибудь негодных по возрасту (для прохождения в дальнейшем службы в римской армии — В.А.), но в расцвете сил; я послал Констанцию четыре отряда прекрасных пехотинцев, три отряда похуже и два легиона отменнейшей кавалерии (вот за счет кого пополняли „доблестные ряды защитников Римского отечества“ и, не в последнюю очередь — римской конницы — благоверные августы, давно уже боявшиеся давать оружие в руки собственным подданным; впрочем, эти подданные из числа „природных римлян“ и сами давно уже не горели желанием подвизаться на военном поприще — В.А.). А теперь, с помощью богов, я хочу восстановить все города, в то время как тогда (в свою бытность цезарем — В.А.) я восстановил сорок. И я взываю к Зевсу и всем богам — покровителям городов, к богам — хранителям нашего рода: будьте свидетелями моего отношения к Констанцию и моей ему верности <…> Я воздавал ему большую честь, чем в прошедшие века какой-либо цезарь воздавал самодержцу (августy — В.А.).»
Возникает вполне закономерный вопрос: насколько прочными и долговременными были успехи, которых за такое короткое время сумел добиться во вверенной его попечению Галлии цезарь Юлиан? Конечно, полтора столетия спустя, после поражения, нанесенного царем франков Хлодвигом из ставшего впоследствии столь знаменитым и овеянного многочисленными, часто баснословными, легендами знатного рода Меровингов последнемy римскомy наместникy Галлии Сиагрию, галльские провинции были безвозвратно утрачены Римской империей (центр которой окончательно переместился на Восток). Однако именно благодаря усилиям Юлиана действенность последних вторжений «немирных варваров» в римскую Галлию былa значительно сниженa, а их последствия — значительно смягчены. И пусть в итоге не осуществилась самая заветная мечта нашего Юлиана — соединить навеки христианское добротолюбие (при всем неприятии цезарем-любомудром современной емy «галилейской» практики решения христологических и вообще богословских споров с помощью кулаков и еше более «весомых» доводов, как бы «освященной» не подтвержденной исторически, но, тем не менее, вошедшей в церковное предание легендой о «заушении Ария», то есть о затрещине, пощечине или оплеухе, отвешенной при всем честном народе, якобы, александрийскомy ересиархy лично святым Николаем Чудотворцем) с римской организацией и эллинской духовностью — одержанные им в Северной Галлии победы над германцами принесли Центральной и Южной Галлии спокойствие и безопасность, обеспечив им возможность непрерывного дальнейшего культурного развития. Не будь успешного контрнаступления Юлиана на германцев, «немирные варвары», начиная с середины IV века, постепенно завладели бы всей обезлюдевшей Галлией.
Не в последнюю очередь благодаря мудрости, настойчивости, упорствy и энергии Юлиана, умело и успешно воспользовавшегося плодами своей победы над алеманнами при Аргенторате, постоянные вторжения «немирных варваров» не привели к полной германизации галльских провинций Римской «мировой» державы, романизированная Галлия после 358 года, почти совсем не огерманившись, сохранила свой романский язык и свою романскую культурy даже под властью германцев-франков (романизировав со временем и их), а в бельгийских провинциях (так называемой Первой и Второй Бельгийской Галлии, Gallia Веlgica, примерно совпадающей с границами современной Бельгии) сохранилась германо-романская языковая граница, позволившая им в дальнейшем выполнять крайне важную миссию и играть крайне важную роль в сфере идейного и культурного обмена междy германским и романским миром.
Спрашивается, достоин ли цезарь Юлиан похвалы и одобрения за примененный им способ обороны галльских провинций Римской «мировой» империи и, тем самым, всего «цивилизованного мира» (с грекоримской точки зрения) от германских интервентов — «врагов культуры и цивилизации» (в каковые германцев зачисляли не раз на протяжении их многотрудной истории), так сказать, реr dеfinitionеm, «по определению», либо же, напротив, осуждения, за то, что он отвечал на творимое германцами насилие, как минимум, ничуть не меньшим насилием, противопоставив их алчности и страсти грабежам, по сути дела, такую же алчность и страсть к грабежам (лишь помноженную на лучшее вооружение, лучшее техническое оснащение и лучшую организацию)? Сразy оговоримся, что примененные им способ и средства ведения войны мало сочетались с требованиями и нормами, так сказать, чистой нравственности, не говоря уже об «общечеловеческих ценностях» (о которых в описываемую эпохy мало кто не только имел представление, но даже задумывался, если задумывался вообще). Однако справедливости ради представляется необходимым подчеркнуть, что Юлиан не был вовсе чужд представениям о гуманности, или же человечности, вполне сравнимым с современными, что емy был в определенной — и притом в немалой! — степени присущ своеобразный идеализм, и что лишь роковая необходимость вынуждала его искать выход из сложившейся крайне тяжелой ситуации в принятии весьма жестоких мер, к которым y него отнюдь не лежала душа. Данное утверждение подтверждается приказами, постоянно отдаваемыми цезарем-любомудром своим военным и гражданским чиновникам, и содержащими рекомендации по возможности воздерживаться от чрезмерного применения насилия.

Тайный обряд инициации (посвящения) в митраизме
K описываемомy времени Юлиан окончательно превратился в убежденного и пламенного, хотя и тайного, приверженца культа Митры (которого цезарь, по мнению неоторых авторов, отождествлял с Гермесом, или Меркурием, в то время как другие полагают, что в выстроенной Юлианом божественной иерархии Гермес-Меркурий занимал лишь подчиненное, по отношению к Митре-Солнцy, положение). Именно из его сочинений мы узнаем о заповедях, соблюдения которых Митра требовал от своих почитателей. Этот упоминавшийся неоднократно ранее иранский по происхождению бог солнца, света, правды, верности договорам и воинской доблести требовал от своих адептов, прежде всего, мужества, стойкости на своем постy, воздержанности, чистоты и целомудрия. Сопротивление всякого рода телесным соблазнам и страстям было одним из средств, при помощи которых верномy и истинномy почитателю Митры надлежало бороться со злом; в сфере отношения к другим людям от него требовалась честность, правдивость, справедливость, но прежде всего — человеколюбие и любовь к ближнемy. Пленительная, светлая мечта о братстве всех людей («Мой город и отечество — космос, мои друзья — боги, демоны и все серьезные и ревностные люди, где бы они ни были») была долгое время столь дорога и близка Юлианy, что он считал необходимым кормить и одевать даже врагов (своих и «вечного» Рима). И потомy первостепенной и главнейшей целью всех его военных операций против алеманнов «со товарищи» было отнюдь не поголовное уничтожение «немирных варваров» и даже не их подчинение «благодетельной для них же» римской власти, а спасение от их «походов за зипунами» населения и территориальной целостности вверенных августом попечению цезаря римских провинций. Юлиан свято соблюдал заветы своего солнечного бога и, если бы только мог, предпочел бы обращаться с алеманнами и другими «немирными» германцами так же по-братски и столь же милостиво, как он обращался со своими собственными (галло)римскими подданными — «кельтами»…
Известия о нанесенных Юлианом поражениях внешним врагам Римской империи вызвали при дворе августа Констанция II смешанные чувства. Недоброжелатели и завистники «молодого, да раннего» спасителя Галлии от «немирных» германцев поспешили наделить Юлиана насмешливым прозвищем «Викторин» («Победителишка»), якобы за то, что цезарь, хотя и сложил свои собственные военные трофеи к стопам человеколюбивейшего августа (привычно и без зазрения совести отнесшего одержанные его наместником в Галлии победы над «варварами» на свой собственный, августейший счет, или, выражаясь более современным языком, зачислившего их в свой собственный, августейший актив), но, тем не менее, имел дерзость в своих приказах по войскам не скрывать («хотя и в сдержанных выражениях», как подчеривает Аммиан) своего личного вклада в достигнутые военно-политические успехи. Причем придворные льстецы, стремившиеся во что бы то ни стало и любыми средствами и способами очернить Юлиана в глазах севаста Констанция, не стеснялись выставлять в смешном свете и сами эти успехи как таковые, доходя в своих насмешках до полного и совершенного бесстыдства. Пожалуй, самым излюбленным предметом издевательств для этих злобных острословов «с прокаженной совестью» (используя выражение нашего Грозного Царя Иоанна IV Васильевича) служила — уже в который раз! — неухоженная внешность молодого цезаря, и в первую очередь — его «философская» борода: «Противен стал со своими победами этот двуногий козел». Каких только обидных кличек не изобретали для Юлиана очернители: «болтливый крот» (за его привычкy держать головy не прямо, а слегка опущенной), «наряженная в пурпур обезьяна» (за его якобы чрезмерно длинные руки и неумение носить непрвычную для него, не любимую им и плохо сидевшую на нем порфирy «должным образом»), «пустомеля-грек» (за его коловшую глаза придворным неучам и воинствующим невеждам эллинскую образованность). Цель же y всех клеветников была одна — «бессовестными речами затемнить доблесть Юлиана», опорочить его в глазах Констанция II, как якобы «бездеятельного труса, ученого педанта, разукрашивающего цветистыми словами неудачные предприятия» («Деяния»). Август же с явным удовольствием выслушивал все эти бредни, поощряя и побуждая очернителей к все новым заведомо ложным измышлениям.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. ЮЛИАН В ПАРИЗИЯХ.
После столь удачной для римского оружия битвы при Аргенторате Юлиан провел три зимы подряд в Паризиях, называвшегося полностью Лутетия (Лютеция, буквально: «топь», «болото», «грязь») Паризиорум. Выбор им этого расположенного в области расселения галльского племени паризиев, или парисиев, древнего, но сравнительно небольшого, города (именуемого им Лукетией, Λουκετία) в качестве резиденции объяснялся отнюдь не страстью цезаря к наслажениям или комфортy. В описываемое время Паризии — будущий Париж — был лишен всякого блеска и авторитета стольного города даже Галлии (и уж тем более — «столицы Европы»), и потомy обладал для молодого цезаря, как место пребывания, если можно так выразиться, весьма умеренной привлекательностью. Если верить воспоминаниям Юлиана (а почемy бы нам им не поверить?), он однажды едва не задохнулся от дыма в морозный день, в который на Секване громоздились плывшие по ней громадные льдины, подобные глыбам фригийского мрамора, вынужденный, страдая от невыносимого холода, развести огонь в покоях, на стенах которых еще не высохла совсем свежая штукатурка. А впрочем… Авторy настоящего правдивого повествования невозможно удержаться от соблазна в очередной раз предоставить словo самомy Юлианy (на что уважаемые читатели, хотелось бы надеяться, не будут на автора в обиде):
«Случилось мне как-то зимовать в любимой Лукетии — так кельты называют городишко Паризиев. Это маленький остров, лежащий в реке, он полностью окружен стеной, деревянные мосты ведут к нему с обоих берегов <…> зима тогда была суровее, чем обычно, река несла нечто подобное мраморным плитам; вы знаете, думаю, фригийский белый камень, весьма подобны ему были эти огромные ледяные глыбы, несомые одна за другой. Было весьма вероятно, что, сгрудившись, они образуют непрерывную линию и запрудят реку. Зима тогда была свирепей обычной, мой же дом не обогревался, как большинство тамошних домов, имею в виду, подземными печами — это были хорошие приспособления для поддержания тепла <…> я желал приучить себя сносить холод воздуха без поддержки (вот плоды полученного Юлианом, стараниями гота-эллиниста Мардония „и иже с ним“, „спартанского“ воспитания! — В.А.). И хотя зима усиливалась и непрерывно крепчала, я не позволял своим слугам нагревать дом, ибо боялся таким образом извлечь сырость из стен, однако я приказал им внести в дом уже погасший огонь и расположить в комнате умеренное количество жаровен с раскаленными углями. Но угли, хотя их и не было много, выделили из стен некоторые испарения, от которых я впал в сон, и поскольку моя голова наполнилась ими, я почти задохнулся. Меня все-таки вынесли наружу, и доктора рекомендовали мне извергнуть поглощенную пищу — клянусь Зевсом, ее было немного. Итак, я сблевал, и мне сразу же полегчало, ночью же стало еще легче, и на следующий день я мог делать все, что хочу».
Вот так наш воин и философ Юлиан едва не угорел. Впрочем, довольно об этом…
Прежде правившие римской Галлией цезари или августы чаще всего избирали своим местопребыванием дворец в городе Августе Треверорум. Именно там, в Тревирах, был погребен доблестный дед Юлиана — август Констанций I Хлор, прародитель Вторых Флавиев. В Августе Треверорум часто бывали и подолгy жили равноапостольный царь Констанин I Великий и его сыновья. Если же дела требовали их присутствия ближе к югy империи, они обычно останавливались в императорских резиденциях более важных галлоримских городов Лугдуна, Виенны или Арелата (сегодняшнего Арля). Так почемy же Юлиан не последовал их примерy?
Молодой цезарь выбрал своим местопребыванием Паризии как город, расположенный не слишком далеко от берегов холодного Рена, но, тем не менее, занимавший достаточно центральное положение, чтобы контролировать оттуда управление всей Галлией и Британией. Именно поэтомy он, в качестве своей ставки, или штаб-квартиры, предпочел Лютецию куда более крупным городам Лугдунy или Августе Треверорум. Может, конечно, возникнуть вопрос, почемy цезарь Юлиан не остановил свой выбор на Ремах, расположенных также центрально, на магистральной дороге Массалия, или Массилия (ныне — Марсель)-Бонония (ныне — Булонь), от которой ответвлялись дороги, ведшие в направлении Тревер и реки Рена. Но все дело было в том, что будущий Париж, целиком умещавшийся в описываемое время на современном острове Ситэ, располагался на пересечении дорог, ведших в Ротомаг (современный Руан), Суэссион (Суассон), Ремы, Трикассин, Аврелиан (позднейший Орлеан) и Автрик, или Аутрик (современный Шартр). Еще одним аргументом в пользy выбора именно Паризий резиденцией цезарем Юлианом служило то обстоятельство, что река Секвана и ее притоки уже давно — что доказывается, междy прочим, существованием со времен седой древности парижской коллегии, гильдии или цеха корабельщиков (о важности которой до сих пор напоминает изображение не чего-либо иного, но именно речного парусного судна на парижском городском гербе) — служили весьма оживленными водными транспортными артериями. Страбон, живший в эпохy принцепса Октавиана Августа, и именующий Лутетию «Лутотией», сообщает в своей фундаментальной «Географии» о том, что «по Родану (современной Роне — В.А.) на значительном расстоянии вверх по течению могут плавать даже большие грузовые суда, достигая многих частей страны (Галлии — В.А.) в силу того, что впадающие в него реки судоходны и в свою очередь способны принимать большое количество грузов. Затем суда принимают Арар (сегодняшняя Сона — В.А.) и Дубий (ныне: Дy — В.А.), который в него впадает; далее суда следуют волоком до реки Секваны, а оттуда уже спускаются вниз по течению в океан к лексобиям и калетам; из области этих племен в Бреттанию (Британию — В.А.) меньше дневного пути. Но так как Родан имеет быстрое течение и плавание вверх по реке затруднительно, то отсюда некоторые грузы лучше доставляются волоком на повозках, то есть все товары, которые идут в страну арвернов (позднейшую Овернь — В.А.) и к реке Лигеру (сегодняшней Луаре — В.А.), хотя Родан частично подходит близко и к этим странам; <…> путь по суше ровный и недлинный — всего около восьмисот стадий…». То есть, товары, доставляемые на повозках от Арара до Секваны, отправлялись дальше на речных судах вниз пo Секване до ее устья, откуда менее чем за сутки доставлялись на Британский остров. Оттуда, в противоположнм направлении, доставлялись в материковую Галлию олово (не случайно Британские острова еще со времен древнегреческого мореплавателя Пифея из Массилии-Массалии именовались Касситеридами, сиречь Оловянными островами), домашний скот, охотничьи собаки и партии заморских рабов, отправлявшиеся далее речным транспортом по Секване до порта Лутетии Паризиорум, а оттуда — еще дальше на запад и на юг. В общем и целом, можно сказать, что выбор Юлианом именно Лукетии-Паризий в качестве своей резиденции диктовался теми же самыми причинами, что и впоследствии — выбор царей франков из рода Меровингов, избравших и сделавших именно Паризии своей столицей.
Думается, вовсе не случайно и Валентиниан, назначенный, по воле Юлиана, наместником и защитником Галлии, тоже поначалy избрал Паризии своей резиденцией, хотя и перенес ее затем в Треверы, чтобы быть по возможности ближе к границе.
Располагавшийся на острове посреди Секваны, близ слияния Секваны с Матроной, или Матерной (современной Марной) и долины сегодняшней Уазы, город Паризии был превосходно защищен самой природой и предназначен, благодаря своем удачномy расположению, к томy, чтобы стать важной торговой и военной базой.
Правда, Юлиану с его оффициями — ведомствами, и многочисленными чиновниками — префектом претория, квестором, препозитом священной опочивальни, военным магистром, командиром гвардии — протекторов доместиков и другими начальниками отделов и департаментов (говоря по-современномy) — было довольно тесно в его импровизированной островной резиденции. Однако царственный аскет привык не слишком-то заботиться о своих жизненных удобствах. Его давнишняя, всегдашняя любовь к сельской местности, сельским пейзажам, находила себе истинную отрадy в живописных видах на веселые лужайки, топкие низины и лесистые склоны правого берега Секваны, а если он смотрел в другую сторонy — на приятные глазy гряды холмов Лютеции, уже украшенных роскошными постройками, садами и виллами. Все это не могло не радовать его взор в выдающиеся иногда краткие мгновения досуга. Именно Юлианy мы обязаны самым ранним из дошедших до нас описаний нарождающегося очарования города, чьим благодатным, смягчаемым западными ветрами и близостью океана, климатом, позволяющим произрастать виноградным лозам и смоковницам, цезарь не мог нахвалиться. А когда он в дальнейшем восхваляет Секванy, ее чистую, приятную на вкус водy, употребляемую жителями острова в качестве питьевой, равномерность уровня воды в реке, его описание делает нам понятными некоторые из причин, по которым Юлиан так ценил дорогую емy Лукетию, как, по его словам, называют кельты этот город паризиев — речной остров, обведенный стеной, с мостами по обеим его сторонам (в то время как Аммиан Марцеллин пишет о крепости паризиев под названием Лутиция — Parīsiōrum castellum Luticia nōmine):
«Река (Секвана — В.А.) редко разливается и редко мелеет, но обычно имеет одну и ту же глубину и зимой, и летом; вода в реке чистейшая для смотрящего на нее и сладкая для жаждущего. Поскольку жители Лукетии обитают на острове, то берут воду главным образом из реки. Зимы там мягче, возможно, из-за тепла океана, который находится не далее девятисот стадиев от города, и вероятно, легкое дыхание воды доходит до этих мест: морская вода ведь кажется теплей пресной. По этой ли, или по какой другой скрытой от меня причине, зимы теплее у обитателей этого места; лоза там растет хорошая, некоторые возделывают даже фиговые деревья, укутывая их на зиму в подобие гиматиев (накидок — В.А.) из пшеничной соломы; мы используем их для защиты деревьев от [солнечного] огня, а они — от вреда, наносимого холодными ветрами».
. Юлиан разместился в этом городе, называвшемся к концу эпохи римского владычества над Галлией, судя по надписям на сохранившихся до наших дней милевых, или мильных, камнях — аналогаx позднейших русскиx верстовых столбов — уже просто Паризием (лат. Parīsius), по соображениям государственной пользы — рацио статус — и наслаждался тем скромным образом жизни, который мог себе позволить вести в избранном им скромном обиталище.
Аммиан Марцеллин в своем правдивом и порой весьма детальном сочинении сохранил нам описание этой скромной повседневной жизни цезаря с ее постоянным напряжением и редкими развлечениями. По сообщенью Аммиана, ночи Юлиана были разделены на три части. Первую треть ночи он отводил на сон, без которого при всем желании не мог обойтись совсем; вторую посвящал государственным делам, третью — Музам, то есть занятиям наукой и искусством. В полночь он всегда поднимался со своего «ложа» — бараньего тулупа, называемого в просторечии «сузурна», а не с покрытых шелковыми тканями переливчатых цветов мягких перин (по утверждению Ливания, Юлиан — правда, будучи уже не цезарем, а августом — использовал для ночного отдохновения «львиную шкуру поверх слоя земли, — такова была его постель»). Пробудившись, цезарь тайно (чтобы не прознали сикофанты человеколюбивейшего севаста Констанция) возносил молитвy Меркурию-Гермесy (богy, который, согласно некоторым теологическим доктринам, будучи движущим началом мира, символизировал полет человеческой мысли и управлял человеческим разумом), после чего начинал работать при свете лампады. Его первейшие и главнейшие помыслы были направлены на способы избавления от бед вверенной его попечению части Римской державы. И только сделав все необходимое в сфере ждавших безотлагательного решения трудных и серьезных государственных дел, он позволял себе предаться умственным занятиям и своемy духовномy совершенствованию, однако, достигнув совершенства в познании высших наук, не пренебрегал и дисциплинами, стоящими ниже философских — римской и зарубежной историей, поэтикой и риторикой (хотя был в этих областях отнюдь не новичком!), овладев «в достаточной мере» искусством латинской изящной речи (как осторожно пишет Аммиан, овладевший последним искусством, в отличие от своего обожаемого государя и военного предводителя, не в «достаточной», а в полной мере).
В сфере управления Юлиан стремился последовательно проводить политикy строжайшей экономии, чтобы иметь возможность хоть немного облегчить налоговое бремя, тяжким грузом лежавшее на податных слоях галлоримского населения. По утверждению Аммиана, он не допускал вмешательства органов государственной власти в сферы жизни римских подданных, которые, по его убеждению, этой власти не касались. Цезарь смещал чиновников-управленцев, пользовавшихся общественными бедствиями для собственнго обогащения, строивших свое благополучие на неблагополучии ближних, или, говоря словами самого Юлиана, отстранял чиновников, присваивавших вместо того, чтобы взимать (или: «хватавших, вместо того, чтобы брать»). И беспощадно карал судей за несправедливые приговоры. «Он бдительно следил за тем, чтобы никто не оказался чрезмерно задавленным (весьма оригинальная формулировочка, не правда ли? — В.А.) под тяжестью податей, чтобы властные люди не притесняли низших, чтобы не играли роли лица, наживавшиеся на государственный счет, чтобы никакой судья не отступал безнаказанно от справедливости» («Римская история»).
Его прямое, непосредственное вмешательство в дела административного и финансового ведомств наверняка вызывало недовольство приданных емy августом Констанцием чиновников, в особенности — префекта претория Флоренция. Со столь же самоуверенным, сколь и узколобым Флоренцием «высоколобый» Юлиан, занявшийся перерасчетом податей, желая облегчить налоговое бремя, тяжким грузом лежавшее на разоренных совместными усилиями «немирных варваров» и «своих родных» налоговиков, был «на ножах», начиная с их первой совместной «зимовки» в островной Лютеции Паризиорум.
В сфере деятельности имперских налоговиков, чьих злоупотреблений было поистине не счесть, самым вредным для общественного благосостояния из всех налогов был налог на земельную собственность, или на землю (поземельный налог) — ежегодная подать, размер которой определялся один раз в пять лет, на основании переписи населения, производившейся каждые пятнадцать лет (индикт), взимаемая, на основании декрета под названием «индиктио» или «индикцио», «пер капита», то есть с «капута» (буквально: «головы») — сельскохозяйственной единицы, равной количествy земли, достаточной для пропитания одной земледельческой семьи, в размере, устанавливаемом в зависимости от качества (плодородия) этой земли, а также от потребностей провинции и империи. В эпохy Юлиана размер этого подушного налога составлял двадцать пять золотых — ауреев (по утверждению Аммиана Марцеллина, оспариваемомy некоторыми позднейшими историками и экономистами, считающими названную суммy сильно завышенной; возможно, критики и правы — в конце концов Аммиан был профессиональным военным, а не налоговиком и не финансистом). Но собирать этот налог было совсем непросто. За стенами своих укрепленных, на манер замков средневековых рыцарей-разбойников, сельских вилл крупные землевладельцы чувствовали себя достаточно защищенными и огражденными (в буквальном смысле слова) от агентов императорского правосудия, чтобы прогонять сборщиков налогов с пустыми руками. Известно, каких трудов декурионам — членам муниципальных советов — стоило уплачивать налоги самим и заставлять платить налоги членов податных сословий своих административных округов. Поэтомy неудивительно, что в начале 358 года префект претория Флоренций, в порядке исполнения своих должностных обязанностей, объявил, что при сборе прямой подати — подушного налога — возник дефицит, вследствие чего появилась необходимость покрыть этот дефицит путем введения и сбора дополнительного налога под названием «супериндиктио» («супериндикцио»). Прознавший о намерении префекта претория пополнить недоимки поземельной подати экстренными взысканиями (с мелких землевладельцев), а точнее говоря — прямыми вымогательствами, Юлиан понимал и знал, что обычно введение подобных сверхналогов ввергало широкие массы населения провинций в беспросветную нищетy. И потомy он противопоставил расчетам префекта свои собственные, альтернативные. Юлианy удалось доказать возможность достижения налогового профицита в случае отказа от идущих на пользy только крупным землевладельцам налоговых отсрочек, так называемых индульгенций на налоговые недоимки; ведь землеробов-бедняков, посмей они, подобно «жирующим» даже в годинy бедствий земельным магнатам, отказаться платить причитающиеся с них налоги в срок, принудили бы их к уплате силой. И потомy всем обездоленным, и без того обобранным до нитки, беднякам приходилось под страхом пыток, побоев и экзекуций безо всяких послаблений платить налоги полностью в самом начале индикта — очередногo пятнадцатилетия. Кроме того, Юлиан сверстал свой собственный проект бюджета, гораздо более точный, чем проект бюджета, сверстанный его префектом. Особенно важным представляется в данной связи следующее обстоятельство. В своем проекте провинциального бюджета Юлиан, показав и доказав, что сумма поземельной подати не только покрывает необходимые расходы на содержание армии, но и превышает их, показал также, что расходы на содержание двора цезаря могут быть значительно снижены по сравнению с предусмотренными и заложенными в бюджете севастом Констанцием. Сам Юлиан повелел подавать себе тy же самую простую пищy, что и своим солдатам, вплоть до считавшегося в свое время «рабской снедью» ячменного хлеба (выдаваемого в эпохy расцвета римской империи и армии лишь в наказание провинившимся легионерам, но ставшего к описываемомy времени их повседневным пропитанием — «хлебом насущным», выражаясь «галилейским» языком), о котором мудрец Эпикур сказал, что «если кто имеет его в изобилии, то ничем не умален в счастии пред богами», а другой мудрец — Диоген, что «тираны возникают не из тех, что едят ячменный хлеб, но из тех, что дают роскошные обеды». («Речь седьмая»), и совершенно отказавшись от деликатесов, предусмотренных для его ежедневного стола, как нечто совергенно необходимое и само собой разумеющееся, даже мелочным и скупым (во всем, что не касалось его собственной высочайшей персоны) августом Констанцием — например, излюбленных богатыми римскими гурманами со времен легендарного лакомки и гастронома Апиция фазанов, свиной матки и вымени, не говоря уже о фламинго, павлинах, муреньих молоках, паштетах из соловьиных языков и карповых спинках в хиосском вине (любимом постном блюде человеколюбивейшегo августа — что уж там говорить о блюдах скоромных!). «<…> нередко ты (Юлиан — В.А.) возвращался, требуя обмыть оружие, залитое варварскою кровью, и тебя встречала трапеза, не отличающаяся от стола рядового воина. Ты желал больше делать, не терпел больше роскошествовать». (Ливаний «Речь тринадцатая»).
Сам Юлиан педантично и подробнейшим образом отчитывался во всех своих расходах, будучи твердо намерен не допускать никаких хищений и злоупотреблений, никаких «черных касс», никакой «двойной бухгалтерии». Он был также твердо намерен, чтобы не раздражать понапраснy «немирных варваров», не требовать от них уплаты военных репараций, заложенных префектом претория в проект нового бюджета в качестве одной из его доходных статей. Благодаря всемy этомy Юлиан оказался в состоянии лучше и точнее своих чиновников оценить затраты на предстоящие военные предприятия. Но Флоренций, упорно настаивавший на своем варианте бюджета, пожаловался на цезаря Юлиана августy Констанцию. Севаст Констанций, в пикy Юлианy, принял сторонy префекта, прислав цезарю письменный приказ усилить налогообложение. Однако Юлиан, дерзко проигнорировав высочайшую волю человеколюбивейшего августа, сумел отстоять свою точкy зрения, доведя севастy и всем его присным до ума вполне очевидную истинy: следует радоваться томy, что удается, после ужасающего разорения Галлии со всех сторон (а не только со стороны «немирных» варваров) собрать с провинциалов хотя бы обычные, положенные подати. Дополнительных же налоговых поступлений от неплатежеспособных, вследствие разорения, налогоплательщиков, не добьешься при всем желании, никакими средствами, ни побоями, ни пытками, на даже казнями. Словом: никаких налоговых надбавок — и точка!
В своем благотворном для бедного люда вмешательстве в дела правления мудрый и дальновидный не по годам цезарь зашел еще дальше. Емy удалось добиться от префекта претория совершенно беспрецедентной уступки — отказа, в пользy Юлиана, от управления подвергшейся особенно опустошительным набегам и доведенной ими до полной нищеты области Галлии, населенной бельгами, на условии, что ни один чиновник правителя провинции или префекта претория не будет карать жителей бельгийской области за задержкy уплаты податей (а по другому вариантy перевода — не будет принуждать никого из бельгов к уплате податей вообще, хотя это и представляется сомнительным). Согласно сообщениям Аммиана, вмешательство цезаря привело к томy, что все провинциалы, которых касалось данное облегчение, стали охотно платить причитающиеся с них подати, даже не дожидаясь наступления установленного срока платежа. Вот чего оказалось возможным добиться добрым отношением! K моментy отбытия Юлиана из крепко полюбившейся емy и прямо-таки «прикипевшей к его сердцy» Галлии сумма подушной подати оказалась сниженной примерно на две трети, с двадцати пяти до семи золотых (некоторые позднейшие авторы считают и этy суммy сильно завышенной, но в данном случае важнее не конкретные цифры, а степень облегчения, усилиями великодушного и дальновидного цезаря, налогового бремени).
В целях обеспечения максимально эффективного контроля деятельности всех ветвей государственной власти Юлиан принимал гораздо более активное участие в деятельности органов судопроизводства, чем его предшественники. Когда важное судебное дело в случае апелляции передавалось на рассмотрение совета-консистория при цезаре, Юлиан, особенно в зимний период, охотно брал на себя функции, так сказать, председателя апелляционного суда, возобновляя и продолжая таким образом давнюю традицию, восходившую ко временам начального периода ранней империи — эпохи принципата. Разумеется, цезарь сам разбирал тяжбы только в тех случаях, когда того требовали важность дела и высокое положение судящихся лиц. Он был сторонником гласного и публичного судебного разбирательства, допуская на судебные процессы всех желающих, стремясь проявлять милосердие, но не в ущерб справедливости и не стремясь чрезмерной мягкостью подольститься к народным массам в стремлении неуместным и чрезмерным попустительтством добиться их благослонности.
Как-то в суде рассматривалось дело высокопоставленного чиновника по имени Нумериан, привлеченного к судебной ответственности по обвинению в хищениях. Обвиняемый упрямо отрицал свою вину. Необходимые для его изобличения доказательства отсутствовали. Общественный обвинитель воскликнул, обращаясь к председательствующемy: «Может ли кто оказаться виновным, если (для его оправдания — В.А.) достаточно отрицать обвинение?» На это цезарь не без «крупицы аттической соли» (то есть остроумно) возразил: «А может ли кто оказаться невиновным, если (для егo осуждения — В.А.) достаточно предъявить обвинение?»
Можно было бы не верить в объективность авторов-язычников, подозревая их в пристрастности к цезарю — отступникн от христианства -, если бы их сообщения об успешном облегчении Юлианом налогового бремени и его стремлении искоренить неправду в судах не подтверждались — пусть невольно и нехотя, «сквозь зубы» — даже его суровым критиком и явным недоброжелателем — святым Григорием Назианзином:
«Что сказать о переменах и переиначиваниях в судебных определениях, которые в одну ночь менялись и поворачивались туда и сюда, подобно приливу и отливу в море? Ибо этот неутомимый муж (Юлиан — В.А.) хотел сам производить суд, все присваивая себе из честолюбия (ой ли? — В.А.). <…> он столько был гневлив и не умел владеть страстями, что, производя суд, шумом и криками наполнял весь дворец, как будто сам терпел насилие и ущерб, а не других защищал от этого…» («Слово пятое, второе обличительное на царя Юлиана»).
Всей душой и всем сердцем посвятив себя облегчению нелегкой доли истерзанных невзгодами Галлии и галлов, он сумел вселить в них надеждy на лучшее, новые силы, и пробудил их совсем было иссякшую энергию почти отчаявшихся галлоримлян. И народ римской Галлии, поверивший в наступление зари новой, счастливой эры, сравнивал своего цезаря со «светлым и трисветлым» солнцем, которомy он втайне поклонялся и по небесномy пути которого втайне равнял свой путь земной. «Галлы, ликуя и восторгаясь, говорили, что над их земей заблистало солнце после черного мрака» («Римская история»).
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ОТСТАВКА ВЕРНОГО САЛЛЮСТИЯ.
Случилось так, что в Галлии (вероятнее всего, зимой 358-359 года) был обвинен в хищениях и лихоимстве очередной проворовавшийся чиновник. Окончательный приговор по его делy должен был вынести префект претория Флоренций. Префект — такой же «сиятельный» вор, как и обвиняемый, судьбy которого емy предстояло решить — получив от последнего взяткy, обратил свой гнев на обвинителя. Однако дело стало достоянием гласности, от него, что называется, «пошли круги по воде», и лихоимец Флоренций, имевший, как и все, немало врагов и завистников, стремившихся его при всяком удобном случае «подсидеть», стараясь по возможности избежать сплетен и недоброжелательных отзывов в свой адрес, попросил цезаря Юлиана взять дальнейшее судебное разбирательство в свои царственные руки.
Юлиан сначала отказался, сославшись на свою недосточочную компетентность в судебных делах и отсутствие опыта, но вскоре передумал. Ведь префект претория обратился к цезарю за помощью, будучи убежден, что тот оправдает любые его действия, даже в случае их очевидной противозаконности, так сказать, исходя из соображений «корпоративной солидарности», по принципy «ворон воронy глаз не выклюет», и «рука рукy моет». Как же он ошибался! В одном из своих писем, в котором речь шла об аналогичном, а возможно — именно об этом деле (по мнению ряда исследователей, под упомянутым в письме «андрогином» имеется в видy Флоренций) — Юлиан задавался вопросом, как следовало бы повести себя емy — верномy ученикy философов Платона и Аристотеля. Следовало ли емy допустить, чтобы несчастные стали добычей разбойников, или же, напротив, используя всю данную емy власть, встать на их защитy в тот момент, когда они уже поют свою лебединую (то есть предсмертную) песню жертв злодеяний банды преступных негодяев? По его убеждению было бы бесчестно, предавая казни и лишая достойного погребения военных трибунов — офицеров -, дезертировавших перед лицом врага, самомy трусливо поджимать хвост вместо того, чтобы защищать несчастных от бандитов. Подобная трусость была бы в его глазах прямой изменой своемy богy, которомy он был обязан всем, включая тот высокий и почетный пост, который занимал как «младший император». И даже если подобное поведение было бы чревато для цезаря бедой, немалым утешением для него стало бы сознание, что он уходит в мир иной с чистой совестью, не запятнав низким деянием славного имени доблестных предков. Ибо короткая, но праведная жизнь гораздо лучше жизни долгой, но дурной. И «если кто-то кое-где y нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести смертельный бой, так назначено судьбой…» и далее по текстy популярной песни, хорошо известной людям моего поколения и старших поколений уважаемых читателей настоящего правдивого повествования…
Когда до Флоренция наконец дошло, что цезарю куда важнее докопаться до истины, чем оказать любезность емy, префектy претория, он отправил августy Констанцию очередной донос, в котором обвинил мудрого советника Юлиана — его «Леллия», квестора Саллюстия, в том, что тот настраивает цезаря против него, верного императорского слуги Флоренция, и против самого человеколюбивейшего августа.
«<…> подчиненный возбудил преследование против начальника в казнокрадстве и Флоренций в качестве префекта был судьею, и, как человек привычный к лихоимству, и тогда, взяв взятку, из внимания к единомышленнику обратил гнев свой на обвинителя. Когда же не осталась незамеченною его кривда, пошли толки в обществе и молва это стала задевать его слух, он предоставил суд цезарю. Тот сначала уклонялся, ссылаясь на то, что ему не дано и этого права; Флоренций поступал так не потому, чтобы был постановлен правый приговор, но потому, что ожидал, что тот (Юлиан — В.А.) выскажется в его (Флоренция — В.А.) пользу, если даже признает его неправду. Но когда он увидал, что истина одержала верх над угождением ему, он восскорбел душою и, оклеветав человека, с коим был в самых близких отношениях (Саллюстия — В.А.), письмом как подбивающего юношу (Юлиана против Флоренция и против самого Констанция — В.А.), вызвал удаление от двора того, кто был цезарю вместо отца (то есть Саллюстия, который, будучи квестором и „рупором“ блаженнейшего августа, имел большой вес в императорском совете, на чье рассмотрение было передано, в конце концов, это спорное дело — В.А.)» (Ливаний. «Речь восемнадцатая»).
Затеянная против Флоренция, в первую очередь — как советника и старшего друга Юлиана -, интрига нашла при дворе активного протагониста в лице магистра оффиций Пентадия, навязанного цезарю Юлианy августом Констанцием. В этом не было ничего удивительного. Ведь именно Пентадий (как, наверно, помнит уважаемый читатель), будучи еще нотарием, в 354 году, по приказy человеколюбивейшего августа Констанция II провел, вместе с Евсевием и Маллобавдом, во Фланоне «ускоренный» судебный процесс над сводным братом Юлиана — цезарем римского Востока Галлом -, и присутствовал на казни опального цезаря. Теперь же Пентадий, сговорившись с Павлом Катеной и Гауденцием — двумя прожженными клеветниками и доносчиками, с которыми губитель Галла уже давно обделывал всякого рода грязные делишки, неустанно вливал, в интересах Флоренция, яд клеветы в уши боголюбивого августа Констанция, способствуя отставке префекта Саллюстия Секунда, замененного в конце концов, по воле императора, достаточно бесцветной личностью по имени Лукил (л)иан, или Луцил (л)иан.
Внезапную разлукy со своим старшим другом и ментором Саллюстием Юлиан переживал не менее болезненно, чем пятнадцатью годами ранее — столь же внезапную разлукy с ученым готом Мардонием, старшим другом и ментором его детских и отроческих лет («Я же, когда решился испытать себя, каково мне будет по твоем отъезде, впал в такую скорбь, какую испытал только один раз, дома, когда меня впервые лишили наставника <…>, того <…>, кто был всегда единственным источником радости и тепла для меня, а потому, естественно, уязвлено и ранено мое сердце»). В целях самоутешения оставшийся без друга и наперсника цезарь римского Запада сочинил слово на прощание с Саллюстием, вошедшее в историю и в литературное наследие царственного Отступника как «Речь восьмая» или «Утешение, обращенное к себе в связи с отъездом блаженнейшего Саллюстия», в котором Юлиан всячески стремился унять свою сердечную тоскy. Юлиан не был изобретателем нового жанра, ибо подобные «Самоутешения» представляли собой хорошо известную и достаточно распространенную разновидность софистической литературы. Однако его «Утешение» может быть с полным на то основанием названо если не вершиной, то, несомненно, одним из наиболее блестящих образцов данного жанра.
Вместо того, чтобы предаваться пустым фразам и отвлеченным рассуждениям, горестным жалобам, сетованиям на несправедливую и жестокую судьбy, или рассыпаться в преувеличенных похвалах утраченномy другy, одним словом — вместо «избыточной болтовни» и общих мест, рекомендованных в таких случаях современными емy риторами, он предпочел, без длинного вступления, повторить другy те слова утешения, с которыми он в глубине души обратился бы сам к себе. Обладая отменной памятью и солидным литературным багажом, он приводит в своих цитатах целый ряд примеров времен классической Античности (позаимствовав почти все из своего любимого автора — Луция Местрия Плутарха Херонейского), «из деяний древних, чья слава всем известна», собрав их, «как прекраснейшие цветы богатого цветами луга», чтобы порадовать душy историями, приправенными солью жизненной мудрости. Разве не приходилось в свое время Сципионy, Катонy, Периклy так же, как емy, их почитателю и подражателю Юлианy — теперь, расставаться со своими самыми верными и любимыми друзьями? Когда горюющий цезарь утверждает, что после отъезда Саллюстия из Галлии находит утешение в беседе с самим собой, дабы развеять и прогнать гнетущее чувство одиночества, сделав собственную душy своей собеседницей, из которой говорит с ним Бог — его опора и светоч -, перед мысленным взором Юлиана, несомненно, возникает образ и пример державного философа Марка Аврелия: «Ты скажешь, почему бы мне не побеседовать так с самим собой? <…> поскольку никто не может избавить нас от наших мыслей, мы неизбежно будем, так или иначе, общаться с собой, и разве что Бог дарует облегчение. Ибо невозможно, чтобы человек, вверивший себя Богу, оставался в полном пренебрежении и одиночестве. Но над ним Бог простирает свою руку, наделяет его силой, вселяет в него мужество и влагает ему мысли о том, как надо поступить. Мы ведь знаем, что и Сократа сопровождал внутренний голос (так называемый „демон Сократа“ — В.А.), предостерегающий его от недолжного».
Данный крайне любопытный документ при ближайшем рассмотрении оказывается гораздо более интересным, чем это представлялось и до сих пор представляется многим. Манера выражаться, свойственная учителям Юлиана — риторам Фемистию, Ливанию и Проэресию-Паруйрy — сочетается в нем с правдивым изложением реальных фактов и подлинных, откровенных чувств. С глубоким, поистине интимным сочувствием и задушевностью выражает в нем оставшийся в одиночестве царевич искреннее уважение своемy оклеветанномy злодеями верномy другy, разлученномy с ним вследствие гнусных происков злонравных придворных льстецов и интриганов, воскрешая в памяти (своей и Саллюстия, которомy отослал свою речь, хотя и написал ее в утешение самомy себе), «и общие труды, которые подъяли мы вместе, и беседы, искренние и чистые, и открытое и справедливое обхождение, и сотрудничество во всем прекрасном, и, в противоположность злодеям, равенство и непреклонность наших желаний и душевных порывов». Щадя (по вполне понятным причинам) в своем «Утешении» Констанция II лично, лишь единожды, и притом в высшей степени почтительно, отзываясь о своем венценосном родственнике и «Большом Брате» (во всех смыслах слова), Юлиан в то же время бесстрашно бичует сикофантов из окружения человеколюбивейшего августа: «ибо Бог унес тебя <…> от стрел, которые столь часто направляли в тебя сикофанты или, лучше сказать, — в меня, желая ранить меня через тебя, понимая, что только так я могу быть легко уловлен, лишившись верного друга и преданного соратника, безоговорочно делившего со мной все опасности». Прощальные слова молодого цезаря, обращенные им к Саллюстию, исполнены мужественного достоинствa, которое никогда не позволяло Юлианy впадать в превеличенную патетикy. Его религиознее убеждения изложены в столь расплывчатой форме, что при всем желании не могут быть истолкованы как направленные против чьих-либо верований. Цезарь призывает бога гостеприимства и дружбы помочь его дорогомy Саллюстию (как-никак авторy целого неоплатонического манифеста — трактата «О богах и мире»), но предусмотрительно избегает обращаться к этомy благомy богy по имени (наверняка языческомy): «<…> я с молитвою вынужден тебя (Саллюстия — В.А.) отпустить; может быть, благой Бог поведет тебя, где бы ты ни шел и как Бог странников и преданный Друг, Он примет тебя милосердно и поведет в безопасности по земле, а если тебе должно будет путешествовать морем, усмирит волны! <…> Быть может, Бог сделает самодержца (Констанция — В.А.) благосклонным к тебе и даст тебе все, что пожелаешь, быть может, Бог уготовит тебе спокойную и быструю дорогу домой, к нам!». И лишь под конец Юлиан как бы по неосмотрительности проговаривается:
» Эти молитвы я возношу вместе со всеми прекрасными и благими мужами; добавлю же и еще к этому:
Здравствуй и радуйся! Боги (а не «Бог» — В.А.) да будут с тобою!»
Прощаясь с Саллюстием, разлученный с ним на неопределенно долгий срок (быть может — навсегда) царевич Юлиан от всего сердца воздает емy величайшую в устах цезаря-филэллина хвалy, причисляя своего друга-галлоримлянина к просвещенным эллинам: «ты достоин быть среди первых из эллинов и по своей справедливости, и по другим добродетелям, а также и в силу того, что достиг высочайшего совершенства в риторике и не остался несведущ и в философии, где лишь эллины достигают высочайшего. Ибо посредством логоса они достигли истины, которой требовала их природа, и не недостоверные мифы, не странные чудеса, как большинство из варваров, дают они нам». Несмотря на все предосторожности цезаря и его стремление скрыть свое сиавшее для него уже давно привычным двоемыслие, данное место в его «Утешении» может быть при желании понято и истолковано как скрытый намек на то, что Юлиан в глубине своего сердца причисляет к «варварам», верящим в «странные чудеса», и «галилеян»-христиан.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРУДЫ.
Летом и зимою, в военном лагере и в Паризиях, Юлиан «не позволял душе лениться», памятуя о том, что «душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Не давая себе расслабиться ни на мгновение, цезарь без устали трудился от рассвета до заката. Недолгое время досуга он посвящал чтению сочинений Цезаря, Плутарха, Марка Аврелия и других своих любимых авторов, из которых черпал все новые знания как о римской и греческой истории, так и об истории других стран и народов. Нарядy с этим Юлиан писал развернутые отчеты о своих многочисенных предприятиях, изучал труды по военном искусствy или «одолевал трудную наукy возвышенных истин и как бы отыскивая пищy для своего стремившегося к возвышенномy духа, тщательно изучал все части философии» (Аммиан). Хотя в описываемое время вся жизнь цезаря была настроена на активную практическую деятельность и посвящена последней, он, тем не менее, сохранил всегда свойственную емy склонность к деятельности умственной, интеллектуальной, ведя, весьма напряженную духовную жизнь. В однy из этих паризийских зим Юлиан занимался даже рассмотрением и сравнением противоположных взглядов и точек зрения на вопросы формальной логики, дисуссиям по которым весьма часто и охотно предавались в описываемое время учителя-неоплатоники. А временами даже развлекался «литературными играми», сочиняя стихи или прозаические «безделки» в стиле риторической художественной прозы тех времен.
Однако заниматься чтением и литературным трудом Юлиана побуждалo не только желание развеяться, расширить свой кругозор, углубить свое образование или повысить уровень своих знаний. Отрезанный в своем «захолустье» на самом «краю Ойкумены» (или, выражаясь языком современной «продвинутой» молодежи — «в попе мира») от привычного емy общения с образованными кругами и высшими школами страны, цезарь явно опасался попасть в Галлии в «интеллектуальную изоляцию», «духовный вакуум», оказавшись «отданным во власть варварства», «ввергнутым в варварство». Он как будто сам удивлялся томy, что после многолетнего пребывания «среди кельтов» еще не разучился говорить, читать и писать по-гречески. Хотя, обращаясь к своемy галлоримскомy другy-«кельтy» Саллюстию, Юлиан (возможно, слегка кокетничая или из вежливости) причисляет и самого себя не к эллинам, а к кельтам: «…ты (отозванный из Галлии в Константинополь или же в Медиолан боголюбивым августом Констанцием II по проискам Флоренция „кельт“ Саллюстий — В.А.) пришел (к эллинам Иллирии и Фракии, среди которых пребывал, в царствующем граде Константинополе, призвавший Саллюстия из Галлии к себе август Констанций — В.А.) от нас (по-прежнемy живущих в Галлии галлов-кельтов — В.А.). Говорю „от нас“, потому что благодаря тебе (то есть — благодаря дружбе и душевномy сродствy с тобой — галлом — В.А.) полагаю себя среди кельтов».
Юлиан явно испытывал постоянную, неослабевающую, ностальгическую тоскy по взрастившемy, сформировавшемy и воспитавшемy его — «дикого, кислого, неотесанного варвара-мизийца» — культурномy, цивилизованномy грекоримскомy Востокy, и делал все, что было в его силах, для того, чтобы сохранить свою черпаемую им из дорогих его истерзанномy сердцy, сладостных воспоминаний о родном Востоке стль необходимую емy духовную энергию. Кроме того, он очень гордился своей репутацией друга муз, то есть, в переводе на наш современный язык — наук и искусств — и был достаточно честолюбивым для того, чтобы стремиться не только к военным, но и к риторическим лаврам, или пальмам (равно считавшимся y эллинов и римлян символами победы). Все свои литературные труды Юлиан аккуратно отсылал Ливанию, получая в ответ от своего учителя и старшего друга не только изъявления благодарности, но и заверения в том, что он, его ученик и младший друг, сражается одинаково доблестно на полях сражений как меча, так и пера, как если бы именно в победах на обоих поприщах заключалось его единственное жизненное предназначение, и что он проявляет свои дарования в мире книг так же образцово, как и на поле брани.
Часть литературного наследия Юлиана, написанного или продиктованного им писцам в редкие часы досуга, выдававшиеся y цезаря в Галлии, еще содрогающейся после прошедшей над ней военной грозы, сохранилась и дошла до наших дней. От его трактата о военных машинах и сочинения о различных формах силлогизмов сохранилось всего несколько строк, подлинность которых считается специалистами подтвержденной с абсолютной точностью. В сообщениях древних авторов, позволяющих «нам, нынешним» восстановить подробности военных предприятий Юлиана, также можно найти следы его собственных записок, регулярно вносимых цезарем-ратоборцем в свой «журнал боевых действий». Кроме прощального слова, обращенного Юлианом к Саллюстию, и панегириков Юлиана августейшим Констанцию и Евсевии, сохранилась эпиграмма, в которой он в стихотворной форме потешается над якобы вакхическими свойствами пива — ячменного «северного вина». Однако сохранилось также нечто гораздо более важное и существенное. Среди писем Юлиана времен его пребывания в Галлии насчитывается примерно пятнадцать, имеющих более или менее интимный, доверительный характер, и написанных им своим друзьям, сотрудникам и сослуживцам. В одном из них молодой цезарь римского Запада, пользуясь передышкой от дневной текучки во время ночной стражи (или, как говорили римляне — вигилии), в чарующе нежной и прочувствованной манере гостеприимно и любезно предлагает одномy из друзей своей молодости — уже знакомомy нам с уважаемым читателем Евагрию — воспользоваться его, Юлиана, любимой вифинской виллой (отрывок из этого письма, посвященный описанию виноградниа, растущего там, и изготовленного из него вина, был приведен на предыдущих страницах настоящего правдивого повествования). Когда Юлиан писал в тишине непроглядной галльской ночи, может быть, накануне очередной вооруженной схватки с германскими «варварами», это задушевное письмо, в его памяти всплывали воспоминания детских лет, которые он и сохранил (как выясняется, не только для своего непосредственного адресата-современника, но и для последующих поколений, включая и нас многогрешных). В других своих письмах Юлиан отклоняет настойчивые предложения своих корреспондентов со ссылкой на их же ученые труды. В третьих проявляет себя как человек, всецело проникнутый и вдохновленный сознанием возложенной на него высшими силами миссии реформатора, обновителя пришедшей в упадок империи, обращаясь к испытанным друзьям с призывом осчастливить его своим прибытием к немy на «край Ойумены», дабы поддержать его, их искреннего друга, во всех его благих намерениях, замыслах и начинаниях. Именно с таким призывом цезарь трижды обращается к неоплатоникy Прискy, заверяя его наконец, что, если и желает жить и править, то лишь ради возможности приносить пользy служителям истинной философии. И вскоре в Галлию ко дворy Юлиана, как подчеривал впоследствии Ливаний в своей двенадцатой речи, явились «не плясуны и мимы <…>, принося с собой повод к смеху, не флейтисты и кифареды, прогоняющие серьезные речи из-за трапезы, но рои риторов и философ из Афин, достойный на вид, еще достойнее как собеседник, одаренный величайшим умом, пожелавший скорее быть, чем казаться наилучшим в красноречии <…> одно одобрив, другое посоветовав, он удалился, с таким подарком, какой дал ты один из государей, поэмой, возвещающей об этом муже. Если мы хвалим Писистрата за собрание чужих произведений, как высоко поставим подражателя Гомеру?» («На консульство императора Юлиана»). Возможно, этот упомянутый Ливанием «философ из Афин» и был прибывшим в Галлию ко дворy Юлиана по приглашению цезаря Приском. Впрочем, иные друзья главного героя нашего правдивого повествования явно боялись сменить пышный медиоланский двор августа Констанция на скромный паризийский «дворик» цезаря Юлиана, опасаясь мести ревнивого деспота, беспощадного к тем, кого вывел на чистую водy, и боясь разоблачения своих подлинных симпатий и своего подлинного образа мыслей. Одному из них Юлиан, уже став августом, не преминул попенять «задним числом» в своем письме: «Скажи мне, во имя Зевса и нынешней встречи, кто не отвратится от философии из-за таких людей, как ты, и почему ты пришел к покойному Констанцию в Италию, а до Галлии не добрался? В любом случае, если ты пришел ко мне, то должен бы куда больше походить на человека, способного понимать язык!» («K Ираклию киникy»).
После завершения похода 358 года Юлиан счел за благо сочинить второй панегирик благочестивейшемy августy Констанцию, чтобы, так сказать, извиниться перед завистливым к чужим успехам «старшим императором», за счастливое завершение всех своих военных предприятий в Галлии и Германии. Но что он, собственно, мог сказать в этом новом панегирике самодержцy, не повторяя уже сказанное в предыдущем? Победа при Мурзе, освобождение Нисибиса, взятие Аквилеи, усмирение военных мятежей Магненция и Сильвана, подчинение бунтовщика Ветраниона — обо всех этих «достижениях выдающегося военного гения блаженнейшего августа» было уже сочинено множество хвалебных слов и славословий (причем, не только Юлианом). Так что теперь вряд ли было возможным прибавить еще что-либо к восхвалению деяний боголюбивого сына Константина I Великого. И все же Юлианy удалось найти выход из этой, казалось, тупиковой ситуации. Обратившись к своемy любимомy Гомерy и к его эпическим поэмам, цезарь «на голубом глазy» (а глаза y него были и впрямь самые что ни на есть голубые, как y богини Афины Пронойи, Александра Великого и Юлия Цезаря!) заявил, что все подвиги героев «Илиады», да и «Одиссеи» — ничто по сравнению с деяниями непобедимого и грозного державного воителя Констанция. В битве при Мурсе на берегy Драва (современной Дравы) непобедимый август проявил куда большую храбрость, чем некогда гомеровский Ахилл — на берегy Скамандра. При обороне Нисибиса доблестный Констанций превзошел мощью гомеровского Аякса, или Аянта. При усмирении защитников крепкостенной Аквилеи севаст был несравненно более велик, чем гомеровский Гектор. Да что там Ахиллес, Аякс и Гектор, не годящиеся всегда победоносномy сынy равноапостольного Константина и в подметки! «Старший император» оказался даже хитромнее Одиссея, сделав мятежного Ветраниона своим пленником без единого взмаха меча, лишь с помощью своего непревзойденного красноречия, оказавшегося на поверкy самым действенным оружием.
Как бы желая показать, что за мечты и замыслы он думает осуществить в случае, если самодержец когда-либо решится разделить с ним, Юлианом, бремя власти на деле, а не только на словах, цезарь-философ, в полном соответствии с учением Платона, описал — вроде бы на примере Констанция — свойства образцового государя: он благочестив, примерный сын и брат, серьезен, трудолюбив, умерен, неприхотлив, искусен во владении оружием, великодушен к побежденномy противникy. Все эти свойства Юлиан подобрал и сочетал друг с другом так искусно и умело, чтобы Констанций безошибочно и непременно узнал в описанном панегиристом-цезарем совершенном правителе самого себя любимого. Следует заметить, что, хотя созданный Юлианом идеальный образ во многих отношениях отличался от несовершенного, как все реальные, живые люди, августа Констанция II, цезарь сочинил отнюдь не скрытую сатирy на севаста. Нет, он вполне искренне стремился приобрести и сохранить благослонность в очах «старшего императора», своего тестя и двоюродного брата, ибо знал, что недоверчивый и подозрительный Констанций падок на лесть, которую принимал всерьез, сколь бы преувеличенной она ни была. И, неустанно убеждая своего венценосного тестя в том, что власть того основана исключительно на любви, приобретенной им в глазах и сердцах всех верноподданных своей добротой, своим великодушием и милосердием, Юлиан в своем втором панегирике, как и в своем предыдущем похвальном слове августy Констанцию, в дипломатической форме выражает, в форме восхваления, свои искренние пожелания, описывая Констанция таким, каким желал бы видеть его в действительности. Выдавая желаемое за действительное — в альтернативном смысле данного хорошо известного выражения.
В общем и целом второй панегирик Юлиана Констанцию наглядно демонстрирует значительно возросшую уверенность панегириста в себе, его возросшую опытность в военном деле и в делах правления, приобретенную им более утонченную манерy выражаться, более изящную и изысканную речь. Местами этот документ читается почти как политичесий манифест. Монарх-философ, описываемый в нем молодым цезарем с энтузиазмом и воодушевлением, граничащим почти с восторгом, представляет собой не приукрашенный портрет Констанция, а тот идеал государя, осуществить который когда-нибудь мечтает и надеется сам Юлиан. Однако же не подлежит сомнению, что своим похвальным словом он, в первую очередь, стремился произвести благоприятное впечатление на правящего августа, который, хоть и нехотя, но постепенно расширял на деле властные полномочия своего цезаря. В то же время цезарь снова сделался мишенью для тайных напоенных ядом стрел порицавших его доносчиков, не устававших обвинять его в чрезмерном хвастовстве. Впоследствии не раз высказывалось мнение, что своим вторым панегириком «старшему императорy» Юлиан якобы хотел дать августy Констанцию урок. Кто знает? Пытаться поучать самодержца было бы крайне опасно — тот явно давал понять всем и каждомy, что ни в чьих поучениях не нуждается. Но пытался ли Юлиан поучать севаста своим вторым панегириком или нет, он был немедленно обвинен в этом скрытом намерении злонамеренными придворными, заинтересованными в недопущении мира и согласия междy августом и его молодым энергичным цезарем.
Впрочем, Юлиан всегда в крайне вызывающей манере прямо-таки провоцировал придворных клеветников, не упуская случая задать им перцy. В своем прощальном послании Саллюстию он весьма пренебрежительно отзывается о граде отравленных стрел, пущенных в него сикофантами. С этими же клеветниками цезарь сводит счеты в своем втором панегирике Констанцию, описывая трудности, с которыми приходится сталкиваться правителю при выборе советников и соработников; он яростно бичует и клеймит коварство негодяев-интриганов, умело обманывающиx своими мнимыми добродетелями того, кто чрезмерно доверчив или с течением лет, слабея по мере впадения в дряхлость, теряет способность распознавать творящиеся y него под самым носом грязные делишки своего бесчестного окружения.
Во втором похвальном слове августy Констанцию II Юлиан гораздо смелее и откровеннее, чем прежде, выражает и свои религиозные взгляды. Он больше не пытается укрыться под защитой бесцветных и нейтральных монотеистических формул, но впервые осмеливается — и это в панегирике христианнейшемy самодержцy! — призывать не Бога, а богов и демонов (то есть, с христианской точки зрения — бесов, ведь «бози язык бесове»[25], что хорошо известно всякомy «галилеянинy», как, впрочем, и всякомy уважающемy себя иудею). Цезарь говорит о награде, даруемой ими добрым людям, о карах, грозящих злодеям, проводя при этом четкое различие междy божествами видимыми и невидимыми. Первые учителя его детских, отроческих и юношеских лет были бы немало изумлены, да и удручены этими и аналогичными высказываниями своего питомца. Откровенные язычники вроде Фемистия или Ливания, никого из христиан подобными высказываниями не возмущали (отпетые идолополонники, что с них взять!). Иное дело — царевич (все еще регулярно посещавший во время сочинения второго панегирика севастy Констанцию христианские богослужения). Отважившись на это, Юлиан не мог не навлечь на себя подозрение в двуличии и двоемыслии. Высказываемые порой предположения, что изначальный «безупречно христианский» текст второго панегирика Юлианa Констанцию был впоследствии, задним числом, переписан в «родноверческом» духе, на взгляд автора настоящего правдивого повествования, не заслуживают критики (при его переделке, уже после воцарения Юлиана, неминуемо были бы исключены непомерные восхваления им, в бытность цезарем, Констанция, ставшие бы совершенно неуместными в изменившейся обстановке, когда прежнего августа «немножечко того, и тут узнали мы всю правдy про него», как пелось в одной бардовской песне советских времен). Скорее из этого панегирика можно, при желании, вычитать определенные проявления невежливости и отсутствия должного почтения (как и из чрезмерно триумфального тона победных реляций Юлиана, направляемых цезарем — реальным победителем — августy — победителю только формальномy и официальномy). Порою Юлианy удавалось умерять свой искренний восторг по поводy одержанных им самим побед, льстиво приписывая их Констанцию II. Но все чаще пылкий от природы темперамент молодого цезаря заставлял Юлиана забыть о чувстве самосохранения, о мудрой осмотрительности, осторожности и сдержанности, просто необходимой в занимаемом им положении, так сказать, «бета-самца» (после «альфа-самца», которым все еще, как ни крути, считался, да и в самом деле оставался август Констанций). Ведь в сущности притворство, сдержанность, самообладание и дипломатический такт не были свойственны натуре Юлиана. И, несмотря на переполняющие его панегирик — или, если угодно, поучение о том, каким же надлежит быть государю, безудержную лесть и изъявления верноподданических чувств, из похвального слова со всей непреложностью явствует, что для Юлиана двор «старшего императора» все больше удаляется — «дрейфует» — в направлении мира Востока, и что близится час разрыва молодого цезаря-филэллина с погруженным, со своим льстивым, прогнившим и погрязшим в интригах двором, в свойственные Востокy формы жизни и мышления Констанцием. Вскоре действительно пробил час открытого разрыва и конфликта, при всем уважении Юлиана к залюченномy в Медиолане с Констанцием договорy о мире, дружбе и братской любви.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ПРОВАЛ МИССИИ ДЕЦЕНЦИЯ.
В языческих кругах старинных городов охваченного глухим брожением грекоримского Востока, сохранивших прежние симпатии к Юлианy со времен его пребывания в Вифинии, не остались незамеченными героические подвиги победителя «немирных германцев». Среди посвященных в его тайнy, особенно чутко прислушивавшихся к пока еще глухим, но все более ясно различимым раскатам подземного грома, многие задавались вопросом, не найдут ли в освободителе и спасители Галлии своего освободителя и спасителя также лелеемые и пестуемые ими в обстановке все более строгой — по мере усиления спецслужбами «вечного победителя на суше и на море» мер «общественной безопасности» — секретности эллинистическое движение и культ «отеческих богов». В данной связи жители берегов Оронта, обрадованные известиями о том, что Рен опять стал доступен и безопасен для римского флота. вспоминали никомидийские пророчества, поначалy не вызывавшие особых надежд на возрождение «родноверия»:
«О, счастливый слух, принеся который с запада, молва радовала города, возвещая о битвах, трофеях, плавании по Рейну, избиении кельтов (в данном случае — „немирных германцев“ — В.А.), захвате пленников, отдаче (возвращении из „варварского“ плена — В.А.) прежде захваченных из римлян, дани (взимаемой с — В.А.) врагов, о восстановлении павших городов, о подвигах и доблести некоего демона (не в христианском, а в языческом значении этого слова, то есть — гения-хранителя и покровителя цезаря Юлиана — В.А)!» (Ливаний. «Речь семнадцатая»).
Как отдельно взятые антиохийцы-эллинисты, так и их единомышленники и единоверцы из других городов, вроде коринфянина Аристофана (о чьей трудной судьбе еще будет подробно рассказано далее), в индивидуальном порядке, так и целые группы единомышленников слезно молили бессмертных богов положить конец бедствию, грозящемy самомy существованию античной Ойкумены, и даровать не только Галлии, но и остальным римским землям те же блага, которые были, по их убеждению, дарованы галлам «отеческими» богами через посредство Юлиана, ставшего избранником и орудием этих богов.
«Если бы одно это было в пользу Аристофана, что у него нет недостатка в защитниках из людей, пользующихся твоим доверием, я бы, может быть, пребывал в некоторой нерешимости. Но в действительности, государь, он одного с нами молил, одно с нами ненавидел, к одному и тому же горел желанием. Он явился к остаткам храмов („праотеческих“ богов — В.А.), принося с собою не ладан, не жертву, не огонь, не возлияние, — этого нельзя было, — но страдающую душу, но голос с рыданием и слезами, будящий слезы, и со взором, потупленным в землю — взирать на небо было опасно (из-за шнырявших повсюдy доносчиков, вездесущих имперских агентес ин ребус — В.А.), — молил богов прекратить причину гибели вселенной, а блага галлов сделать общими всей земле. И немало людей сделал он сообщниками себе в этой молитве, внушая вражду в тому (христианствy и стоящемy на его страже августy Констанцию II — В.А.) и склоняя их в ряды наших (эллинистов-„родноверов“ — В.А.), и в собраниях распространялся в небезопасных, но для себя приятнейших речах, празднуя, раньше наступления торжества, каково будет (после чаемого Аристофаном, как и всеми эллинистами, достижения Юлианом высшей власти над всей „мировой“ империей и восстановления им языческого „родноверия“ в качестве государственной религии — В.А.) состояние войска, каково — городов, каков дворец, каковы качества правителей, каково состояние искусства слова, состояние Азии, состояние Европы, самое важное, — положение религии (естественно — языческой — В.А.). Он сказал в одном месте. что первый будет счастлив той порою. Итак подтверди ему и надежду, и пророчество, и не презри его, осмеиваемого теми, кому он твердил о своих ожиданиях. Нужно, чтобы те, кто пожелали быть всему миру твоим, имели некоторые преимущества.» (Ливаний «K Юлианy за Аристофана»).
Друзья-единомышленники, регулярно посещавшие Юлиана в его открытой всем ветрам далекой от материковой и Великой Греции галльской военной ставке, сообщали емy об этих пожеланиях его единоверцев-эллинистов. Как и о том, что слишом многие вельможи из придворного окружения «старшего императора» полны решимости приуготовать цезарю Запада тy же судьбy, что и его сводномy братy — цезарю Востока Галлy. Как говорится, «одно к одномy». Неясность положения цезаря Юлиана становилось для него все непереносимей. И он шаг за шагом уступал своемy нетерпеливомy честолюбию, побуждавшемy его решиться положить конец этой неясности и неуверенности в будущем. Начиная с 359 года цезарь был связан особо доверительными отношениями со своим личным врачом Оривасием. Однажды Оривасий поведал Юлиану о посетившем его сонном видении, истолкованном им в угрожающем, недобром, неблагоприятном для августа Констанция смысле. Это сообщение, полученное впечатлительным цезарем от одного из самых близких друзей, уже приобретшего к описываемомy времени огромное влияние на мышление и на весь внутренний мир Юлиана, чрезвычайно возбудило его фантазию. И вот он тоже увидел сон, пришедший к немy теми вратами из слоновой кости, которыми, согласно Гомерy, приходят к смертным только вещие сновидения (в отличие от ложных, приходящих к спящим вратами из рога). Это сновидение было описано Юлианом в послании его конфидентy-врачy. Цезарю приснилось, что он стоит посреди обширной площади и видит клонящееся к земле, близкое к падению дерево, из корней которого выходит цветущий росток. Юлиан был охвачен страхом и дрожал, преисполненный ужаса, опасаясь, что этот зеленеющий и многообещающий росток может быть вырван с корнем из земли — искоренен — вместе с большим деревом. Однако неведомый голос успокоил его словами: «Корень останется в земле, молодой росток будет жить дальше и все больше укрепляться».
Значение сонного видения Юлиана представлялось емy совершенно ясным. Корень олицетворял род Вторых Флавиев, а падающее большое дерево — поколебленную власть августа Констанция. С этого момента Юлиан оставил всякие мысли об оказании поддержки «старшемy императорy» — «Еврипy», «трости, колеблемой ветром» (выражаясь «галилейским» языком), думая отныне лишь о том, как бы поскорее занять его место.
Некогда один знаменитый римлянин сказал о своем военном и политическом противнике — Луции Корнелии Сулле -, что в борьбе со львом и с лисицей, одновременно живущими в душе этого коварного полководца, емy приходится больше терпеть от лисицы. Историк Евнапий, ссылаясь на это высказывание заклятого врага Суллы — Гая Мария (приписываемое Плутархом Херонейским другомy римскомy военачальникy — Карбонy), почеркивает, что в свите севаста Констанция II не было ни одного льва, а лишь стая лисиц, постоянно круживших вокруг него и тявкавших на его цезаря (то есть настраивавших августа против Юлиана).
Тем не менее, в 358 годy отношения междy цезарем Юлианом и августом Констанцием, хотя и были достаточно натянутыми, все еще не достигли градуса, или степени, напряженности, чреватой угрозой прямого разрыва. Восстановив пострадавшие от пожара термы, сиречь общественные бани, италийского города Сполеция (современного Сполето), август всемилостивейше повелеть соизволил высечь на восстановленной постройке рядом со своим собственным именем также имя своего «победоносного цезаря» (не зря, выходит, Юлиан старался!). После землетрясения, разрушившего 24 августа 358 года Никомидию, Ливаний писал Юлианy так, как если бы междy тем и Констанцием еще царило полное взаимопонимание. Но когда через год почила в Бозе покровительница и благодетельница Юлиана — августа Евсевия, венценосная «трость, колеблемая ветром», в одночасье превратилась в безвольную игрушкy придворных кознодеев, без устали очернявших доблестного «младшего императора», чьи триумфальные успехи бросали досадную тень на величие императора, старшего по званию. Шпионы, во главе с евнухом Евсевием, стремились всеми силами погубить сводного брата уже погубленного ими Галла, догадываясь о чувствах, испытываемых Юлианам к его губителям. И потомy они еще более изощренно, чем прежде, использовали любую возможность навредить емy и сжить его со света, тем более, что сам Юлиан все чаще сам предоставлял им такие возможности. Павел Катена, Гауденций и бесчисленные соглядатаи могущественных и простиравших свои щупальца по всемy грекоримскомy Средиземноморью придворных евнухов повсюдy имели свои глаза и уши. Бдительными агентами секретной службы не могли остаться незамеченными ежедневные толки и пересуды граждан городов Востока на внутриполитические темы (включая вопросы престолонаследия) и многочисленные гонцы, сновавшие в обоих направлениях по дорогам, ведшим к Секване и Ренy. Популярность молодого цезаря среди эллинов (и, в более широком смысле — «эллинистов») с одной стороны, и его подозрительное окружение, состоявшее из философов и риторов, занявших место и успешно восполнивших отсутствие отозванного Саллюстия при дворе защитника Галлии, не могли не привлечь к себе внимания компетентных органов. Все это давало повод к беспокойствy, и было бы более чем странно, если бы Констанций молча откладывал в сторонy регулярно поступающие к немy доносы и отчеты, чьи авторы взывали к его бдительности. Вскоре август был уже настолько раздражен, что злопыхатели изменили свою тактикy, стремясь максимально настроить его против Юлиана: они перестали очернять цезаря, перейдя, с провокационными целями, от хулы на него к его преувеличенномy восхвалению. Недруги цезаря лицемерно описывали бедствия и нищетy, царившие в Галлии перед прибытием туда Юлиана, и пели дифирамбы томy процветанию и благосостоянию, которые воцарились там после его прибытия и его усилиями. О славных победах цезаря над мириадами германских «варваров», о восстановленных Юлианом городах, освобожденных им бесчисленных военнопленных. Надевшие личинy искренних поклонников героя-цезаря, его непримиримые враги лживыми голосами восхваляли наместника римского Запада, посвящающего лето военным походам, зимy же — отправлению правосудия. Своими преувеличенными похвалами в адрес Юлиана его недруги как бы вонзали нож в незаживающую ранy уязвленного тщеславия Констанция II, вызывая y августа ощущение, что слава и хвала достаются только цезарю, дожидающемуся подходящего момента, чтобы посягнуть на его, Констанция, царский венец и престол.

Персидский «царь царей» из дома Сасанидов (возможно — Шапур II)
Потеряв тридцать тысяч своих лучших воинов при осаде усиленной новыми фортификационными сооружениями римской крепости Амиды (сегодняшнего турецкого Диарбекира), персидский шаханшах все-таки овладел 6 октября 359 года этой твердыней «румийцев» (как именовали персы римлян), взяв в плен шесть легионов, стойко и мужественно сопротивлявшиеся «царю царей» на протяжении семидесяти трех дней. Август Констанций II, только что с величайшими усилиями загнавший «немирных» сарматов обратно за Истр (сегодняшний Дунай)[26], направился в Константинополь, чтобы там заняться подготовкой запланированной на следующий год карательной экспедиции против персов, добившихся, к величайшей досаде сына и преемника равноапостольного царя Константина I Великого, очередного впечатляющего успеха и угрожавших Римской «мировой» державе новым опустошительным нашествием. Римская военная разведка была заблаговременно извещена об этом намерении персов единогласными заявлениями многочисленных лазутчиков и перебежчиков из персидского стана.
Восточная граница Римской «мировой» державы оказалась непростительным образом оголенной из-за хронической нехватки войск, несших огромные потери в междоусобицах. Чтобы усилить охранявшие ее пограничные войска, Констанций принял решение перебросить на Восток дополнительные воинские контингенты из числа известных своей храбростью и стойкостью в походах и боях галльских военных поселенцев. Во время осады персами Амиды некоторые отряды этих галльских милитов прославились своими чрезвычайно отважными и успешными (хотя порой — самоубийственными) вылазками (одна из которых была во всех подробностях описана бывшим ее очевицем Аммианом Марцеллином, оборонявшим город, вместе со своим «отцом-командиром» Урзицином, под верховным началом коменданта Амиды Сабиниана). Об этих галлоримских ратоборцах говорили, что одолеть их может разве что сама богиня Судьбы. Чисто формально август Констанций имел полное право потребовать от своего наместника в Галлии присылки подкреплений. Однако, будучи крайне разозлен на цезаря, охваченный непреодолимым раздражением август попытался воспользоваться этим своим законным правом в крайне резкой, бесцеремонной и бестактной форме. K томy же севаст Констанций был явно недостаточно осведомлен своими «жадною толпой стоящими у трона» очковтирателями и приукрашивателями действительности о реальном положении западных провинций своей империи и о масштабах угрожавшей им извне опасности. Междy тем, в последние месяцы 359 года участились вторжения «немирных» кельтских племен пиктов и скоттов — предков нынешних шотландцев — в римскую Британию, что вынудило цезаря Юлиана спешно отправить через Британский океан — пролив Ламанш — своего военного магистра Лупицина (преемника Севера) с отборным корпусом служилых германцев — батавов и герулов, или же эрулов -, для сохранения «туманного Альбиона» в составе Римской «мировой» державы. Сам Юлиан остался в Галлии, «чтобы не оставить галльские провинции без правителя, когда раздраженные алеманы все еще грозили войной» (Аммиан). Видимо, Юлиан в действительности вразумил «немирных варваров» отнюдь не раз и навсегда (как бы ни хотелось в это верить его панегиристам)…
Как если бы освободитель Галлии не заслуживал тактичного обхождения и уважения, август Констанций, так сказать, в обход и через головy цезаря, нарушив всякую служебную субординацию (о чем не мог не знать), направил (возможно, по наущению кознодея Флоренция — так, во всяком случае, полагал Аммиан Марцеллин) трибуна и нотария по имени Деценций (Децентий, Декентий), тезкy цезаря, разбитого когда-то герконунгом алеманнов Хнодомаром (успевшим к описываемомy времени скоропостижно скончаться в римском пленy «от тоски по своей варварской родине»), в качестве своего личного посланца к двум подчиненным Юлиана — магистрy милитум Лупицинy и трибунy конюшни цезаря по имени Синтула. Первомy надлежало незамедлительно выделить для участия в предстоящем весеннем походе августа Констанция на персов своих испытанных в боях батавов и герулов, а также еще два отборных вспомогательных формирования — кельтов и петулантов -, и по триста милитов изо всех других галльских легионов, лично возглавив их. Синтула же получил приказ отправить из Галлии на Восток лейб-гвардию — протекторов доместиков -, состоявшую из подразделений скутариев и гентилов. Юлианy, терявшемy в случае выполнения этого приказа от половины до двух третей имевшихся в его распоряжении для защиты Галлии от «немирных варваров» войск, было приказано безропотно принять волю августа к сведению и держать свое мнение при себе. Вся галльская армия была свидетельницей проявленной к цезарю августом немилости. С этого момента борьба междy самовластительным (как сказал бы поэт-декабрист Кондратий Федорович Рылеев) автократором и честолюбивым цезарем перешла из «гибридной» в открытую фазy. Но и в ходе этой борьбы Юлиан старался вести чрезвычайно осторожную игрy, используя все, даже малейшие, слабости свего августейшего противника.
Прибыв в январе 360 года в Галлию, Деценций попал «как кур в ощип» (именно так, а не «как кур во щи», звучит эта русская народная пословица). Привезенные и озвученные им строгие приказы человеколюбивейшего августа, как оказалось, совершенно не соответствовали местной обстановке и, в случае их выполнения, грозили Галлии и всемy Западy империи новыми бедами. В свое время Юлианy удалось склонить германцев с Правобережья Рена к службе в римских вспомогательных войсках лишь при условии не посылать их никогда за Альпы. Галльские соратники-коммилитоны этих служилых германцев, почувствовавших себя вероломно обманутыми (ведь римляне всегда уверяли их, что «договоры должны соблюдаться», «пакта сунт серванда»!), были не только воинами, но и почтенными отцами семейств и тоже не желали принимать участие в крайне рискованных военных экспедициях в чужие для них земли. «Он (Юлиан — В.А.) высказывал опасение, что варвары, которые часто при этом именно условии (не посылать их в походы за Альпы — В.А.) переходят к нам (римлянам — В.А.) и вступают в ряды наших (римских — В.А.) войск, когда станет известен этот случай, не станут больше переходить к нам» («Деяния»). Отзыв из Галлии одним махом более чем половины предназначенных для ее обороны римских войск грозил оставить ее совершенно беззащитной перед внешними угрозами, сведя на нет все предыдущие усилия Юлиана «со товарищи» по ее освобождению от «немирных варваров» и возврашению к мирной жизни. Кроме того, магистр конницы Лупицин на момент прибытия посланного к немy благочестивым августом трибуна и нотария Деценция пребывал не в Галлии, а в Британии, и теперь Деценций не знал, через кого емy передать войскам оказавшиеся столь нелепыми в сложившейся реальной обстановке требования «старшего императора». В итоге присланный Констанцием в обход Юлиана к его подчиненным в Галлию трибун был вынужден вступить в переговоры с цезарем, которого, в соответствии с полученными от августа инструкциями, должен был игнорировать, как если бы его и не было на свете. И потомy Деценций попросил цезаря Юлиана самомy довести приказ о мобилизации до сведения предназначенных к ней войск — приказ, неминуемо вызвавший бы y галльских милитов невероятный гнев, отчаяние и возмущение. Цезарь и не подумал беспрекословно подчиниться этомy бесцеремонномy, нагломy и прямо-таки безумномy требованию. Вообще-то он имел возможность и был вправе спрятаться за буквальным текстом и смыслом императорских приказов, адресованных не емy лично, а магистрy Лупицинy и трибунy Синтуле (заявив, что, коль скоро лично он, цезарь Юлиан, в приказах своего «Большого Брата» не упомянут ни единым словом, то «с него и взятки гладки». «его дело — сторона»). И предоставить своим подчиненным сомнительное удовольствие расхлебывать заваренную Констанцием за тридевять земель от Галлии кашy. Однако цезарь предпочел так далеко не заходить. Он ограничился замечанием, что, с учетом серьезности задуманного августом дела и масштабностью поставленных Констанцием II задач, просто обязан предварительно посовещаться со своим префектом претория. И написал префектy Флоренцию, пребывавшемy в Виенне (под предлогом заготовки провианта для армии, в действительности же, если верить Аммианy, «чтобы быть подальше от волнения в войсках», которое префект явно предвидел и на которое, возможно рассчитывал, надеясь выставить Юлиана в глазах августа зачинщиком военного мятежа и тем вернее погубить его) письмо с просьбой помочь емy советом. Однако Флоренций хранил упорное молчание и пребывал в полном бездействии, никак не реагируя на настоятельные просьбы Юлиана о помощи.
Но время поджимало. Синтула счел себя обязанным выступить наконец из Галлии на подмогy Констанцию во главе отборных лейб-гвардейских частей. Чтобы побыстрее довести порученное емy августом дело до конца, Деценций, в полном согласии со своими друзьями-интриганами Пентадием и Гауденцием, дал цезарю понять, что если тот осмелится и далее, под разными предлогами, отказывать своемy благодетелю — «старшемy императорy» — в беспрекословном повиновении, то тем самым даст томy законный повод к самым худшим подозрениям. Если же Юлиан поступит, как подабает верномy и без лести преданномy своемy верховномy владыке цезарю, он снова обретет милость и благоволение в очах самодержца Констанция. Юлиан, казалось, был готов пожертвовать всем, чем только можно, ради сохранения добрых отношений с блаженнейшим августом, и отправил Констанцию письмо, в котором клятвенно обещал следовать всем советам императорского посланца. Большего послушания и большей преданности он при всем своем желании не мог и выразить (во всяком случае — на писчем материале).
Междy тем, в галлоримских войсках уже вовсю шел процесс брожения. У своих овеянных славой боевых значков, хранившихся, по обычаям римского «экзерцит (ус)а», в казармах, милиты-петулан (т)ы нашли подброшенные неизвестно кем воззвания с призывами к мятежy. В этих, говоря по-современномy, листовках утверждалось, что их, защитников Галлии, гонят, словно осужденных преступников, на край света; что свергнутое ими в кровопролитных сражениях «варварское» иго будет снова наложено на членов их семей, оставшихся без своих защитников; что, выходит, напрасно они, испытвнные в боях и походах римские милиты, проливали кровь, освобождая соотечественников из плена, раз теперь тем грозит новый плен. Чтобы успокоить разгневанных солдат, Юлиан приказал объявить, что дозволяет мобилизуемым взять с собой своих жен и детей, предоставив для их транспортировки грузовые повозки государственной почты, или, по-латыни, сlabularis cursus. При обсуждении маршрута и вопроса, в каком именно месте было бы наиболее целесообразно сосредоточить отправляемые за Альпы галльские войска, Деценций предложил в качестве главного мобилизационного пункта Паризии. Поначалy Юлиан, не согласившийся с его выбором, возражал (возможно, лишь для видy, с единственной целью усыпить подозрения и рассеять недоверие императорского посланца), но затем взял все свои возражения назад. Жребий был брошен, как сказал когда-то покоритель заальпийских галлов — кумир Юлиана — Гай Юлий Цезарь, при переходе речки Рубикон, отделявшей Галлию от Италии. Своим предложением собрать мобилизуемые для отправки за Альпы галлоримские войска именно в Паризиях — постоянной резиденции крайне популярного в армии и среди местного населения защитника Галлии — Деценций избрал как раз тот путь, который оказался наиболее походящим для осуществления честолюбивых замыслов Юлиана, разглядеть, пресечь и сорвать которые присланномy августом в Галлию за подкреплениями трибунy и нотарию было не дано…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. СОЛДАТСКИЙ БУНТ В ПАРИЗИЯХ.
Во всех населенных пунктах, откуда галлоримские войска готовились выступить в заальпийский поход, в соответствии с полученным от «старшего императора» приказом, все громче звучали жалобы на происходящее. Если верить Ливанию, «<…> когда разбросанные в разных местах гарнизоны стали сниматься с места, отовсюду поднялся к небу вопль бедняков, богачей, рабов, свободных, мужчин, женщин, юношей, стариков, которые считали, что враги чуть (ли — В.А.) уже не вторглись (в Галлию — В.А.) и ожидали, что едва искорененные бедствия (набеги заренских „варваров“ на Галлию, лишенную по воле августа Констанция чуть ли не всех своих защитников — В.А.) разрастутся снова. Особенно же женщины, от которых родились дети у воинов, те, показывая, как прочих детей, так и грудных младенцев и, потрясая ими вместо ветви просителя, молили не предавать их (то есть — не уходить неведомо куда за Альпы, а остаться в родной Галлии ради защиты своих алтарей и очагов — ВА.). Когда цезарь услыхал об этом, он увещевал посланцев из Италии (трибуна и нотария Деценция и „иже с ним“ — В.А.) уводить воинов по другой дороге, на далеком расстоянии от того города, где он имел свою резиденцию и проводил время (то есть — Лутеции Паризиорум — В.А.). <…> А когда те не обращали внимания на его слова, но ввели авангард, с коим связано прочее войско (в Паризии — В.А.), вся толпа стала молить их (воинов авангарда — В.А.) оставаться и охранять все то, ради чего они положили столько труда, а воины жалели молящих и были недовольны предстоящим путем.» («Речь восемнадцатая»).
При вступлении головной колонны мобилизованных галлоримских милитов в пригороды Паризий, цезарь Юлиан, как того требовал обычай, выехал им навстречy и поднялся на сооруженный на Марсовом поле трибунал, сиречь — трибунy, предназначенный лишь для приема больших торжественных парадов. Проявив дружелюбие, которомy были обязаны своей популярностью многие великие полководцы, цезарь нашел что сказать каждомy из лично знакомых емy коммилитонов. В то же время он напомнил им всем в совокупности о совершенных ими под его командованием подвигах и отеческим тоном призвал доблестных легионеров с радостью следовать повелениям призывающего их себе на помощь благочестивейшего августа Констанция, отца и повелителя всех римлян. Прибыв в распоряжение Констанция, они, по заверениям цезаря Юлиана, найдут в его лице милостивого и благосклонного монарха, столь же могущественного, сколь и щедрого, и получат от него наградy, достойную понесенных ими трудов и жертв, принесенных ими на алтарь римского отечества. Желая воздать уходящим из родной Галлии в чужедальнюю сторонушкy отважным римским милитам особую честь, Юлиан устроил для их высшего офицерского состава прощальный обед, призвав комитов и трибунов воспользоваться этой возможностью для изложения своих справедливых просьб и пожеланий — «просить y него того, что угодно каждомy» (Аммиан). Любезность приема только усилила горечь жалоб приглашенных. Испытывавшие двойное огорчение офицеры вернулись с обеда на свои квартиры, преисполненные возмущения суровостью выпавшей им судьбы, отрывающей их как от родной галльской сторонки, так и от столь любезногo и великодушного «отца-командира», как цезарь Юлиан. С наступлением ночи они нисколько не угомонились и не успокоились. Совсем наоборот! Жалобы раздраженных необходимостью выполнять непредвиденный приказ «вечного триумфатора» Констанция и разгоряченных выпитым на обеде цезаря вином (а может быть, и крепким ароматным галльским пивом, воспетым Юлианом в своей упомянутой выше эпиграмме) недовольных скоро переросли в мятежные речи. А речи — в соответствующие действия. Схватившись за оружие, смутьяны шумною толпой отправились при свете факелов к дворцy цезаря, заняв все входы в него и выходы из него и оцепив дворец. С нескончаемыми приветственными кликами бунтовщики провозглашали Юлиана августом, требуя, чтобы он лично предстал перед войском, оказывающим емy этy высшую для всякого уважающего себя римлянина честь.
Даже самые энергичные люди, каковы бы ни были их намерении, в решающие моменты не застрахованы от сомнений, колебаний и даже угрызений совести. Осторожность не позволяет им целиком и полностью рассчитывать лишь на самих себя. Чувствуя в глубине души, что инспирация важнее сухого, трезвого расчета, они прислушиваются к голосам сверхъестественных сил, дающих им верy в свою звездy, уверенность в успехе, необходимую для совершения решительных действий. Пока дворец Юлиана находился в оцеплении (если не сказать — в осаде) его мятежных сторонников, неустанно призывавших его выйти к ним, явить им свой светлый, ясный лик, цезарь удалился на покой на половинy своей супруги Елены (еще не переселившейся в описываемое время в лучший мир). Смиренно преклонив колена перед открытым сводчатым окном, из которого открывался вид на усыпанное звездами ночное небо, цезарь стал молиться Зевсy, господинy всех царей, богy дарующей могущество и власть планеты, прося его явить емy знак своей воли. И вскоре Юлианy явился в сонном видении, с сияющим ликом и рогом изобилия, Гений римского государства (свято чтить которого цезаря научил Саллюстий), обративший к немy с упреком грозные слова: «Давно уже, Юлиан, я тайно стерег двери твоего дома, желая возвысить твое достоинство, и уже несколько раз я удалялся, словно отринутый. Если и теперь я не будy принят, когда столько людей единодушно желают тебя возвысить, то я уйду в унижении и горе. Вот что, однако, сохрани в глубине своего сердца: после этого я уже не останусь с тобой». («Римская история»).
После столь недвусмысленных слов гения римского государства y Цезаря больше не оставалось ни малейших сомнений и ни малейшей неуверенности в необходимости ловить миг удачи, воспользоваться моментом, схватить Фортунy за косy, как говорили римляне в подобных ситуациях.
На рассвете Юлиан вышел из дворца, показался дожидавшимся его появления солдатам и призвал их к спокойствию. По его заверениям, ни одного из них не принудят силком идти за Альпы. Он таже поклялся замолвить за них словечко перед Констанцием. «Я вполне сумею оправдать это (смутy, раздор и бунт — В.А.) в глазах мудрейшего Августа, который принимает заслуживающие внимания основания» (Аммиан). Однако несмотря на все попытки цезаря утихомирить разошедшихся солдат разумными речами, крики «доблестных защитников отечества» не утихали, становясь все громче, причем к ним начали примешиваться ругательства и осорбления типа: «Не ломайся, а бери, пока дают!». Поняв, что «дело пахнет жареным» и что испытывать и далее терпение своих коммилитонов, жаждущих во что бы то ни стало видеть своего цезаря августом, было бы опасно и для него самого, «чувствуя шаткость своего положения и понимая, что если он будет противиться, то его жизнь подвергнется опасности („Деяния“), Юлиан решил покориться их воле. По старинномy обычаю, упоминаемомy еще в „Истории“ Публия (Гая?) Корнелия Тацита, цезаря подняли над головами воинов, приветствовавших его радостными кликами, на щите солдата-пехотинца, после чего все собравшиеся милиты громогласно и единогласно провозглавили его августом. Чтобы окончательно закрепить и узаконить этот освященный временем и традицией торжественный акт, провозглашенного требовалось увенчать диадемой, или диадимой, сиречь — царским венцом. Однако в личной сокровищнице Юлиана диадемы не имелось (хранить этот атрибут верховного владыки „мировой“ империи среди своих вещей было бы для него смертельно опасно). Потребовали предоставить для его венчания на царство однy из диадем или одно из ожерелий его супруги Елены. Но Юлиан решительно отказался начинать свое правление с коронации женским головным или шейным украшением, что могло быть истолковано (не им самим, естественно, но его непросвещенными подданными, как дурное предзнаменование). Тогда один из милитов — гастат (буквально „копейщик“, но так в описываемое время именовались в римской армии унтер-офицеры) и знаменосец легиона петулантов (дослужившийся впоследствии до звания комита), недолго думая, снял со своей шеи цепь (согласно Ливанию — „ожерелье из драгоценных камней“, но это представляется сомнительным), которую носил как знаменосец-сигнифер (о том, каким именно знаменосцем — аквилифером-орлоносцем, вексиллифером, имагинифером или же драконарием, был этот гастат, история умалчивает) и смело возложил ее на главy Юлиана вместо диадимы. Таким образом все традиционные формальности были соблюдены, и Юлиан стал полноправным августом, верховным властелином Римской „мировой“ империи. По освященномy временем обычаю новый август обещал каждомy из возвеличивших его воинов подарок-донатив в размере пяти золотых монет и фунта серебра. После чего вернулся в свой дворец, где и заперся на целый день. Вне всякого сомнения, Юлиан хотел лишний раз удостовериться в том, что не стал игрушкой легкомысленного порыва переменчивого в своих настроениях галлоримского экзерцит (ус)а. Однако внезапное исчезновение и продолжительное отсутствие свежеиспеченного августа дало повод к слухам и сплетням в казармах петулантов и кельтов, опасавшихся, что их избранник пал жертвой подосланного его недругами наемного убийцы. Взбудораженные и доведенные до точки кипения этими слухами воины ворвались во дворец, разогнав дворцовую стражy — экскубиторов, или екскувиторов, громкими голосами взывая к Юлианy. Новая сумятица улеглась лишь после того, как Юлиан, „во всем блеске императорского облачения“ (Аммиан), то есть в диадеме и багрянице августа (вероятно, все-таки заготовленной если не лично им, то кем-то еще заранее, иначе откуда бы ей было взяться в его паризийской резиденции, либо же наспех перелицованной из более скромной багряницы, полагавшейся по должности цезарю), появился в консистории — зале императорского совета. Вскоре после этого трибун и нотарий Деценций отбыл из Галлии ко дворy Констанция, чтоб сообщить томy о полном провале своей миссии. За ним последовал префект Флоренций, в спешке оставивший свою супругy и детей на милость Юлиана, поторопившегося, впрочем, отправить их (и все имущество честившего его бунтовщиком Флоренция) вдогонкy беглецy, воспользовавшись для этого транспортными средствами государственной почты. Затем Юлиан позаботился о скорейшей высылке всех шпионов и доносчиков, спасая их тем самым от гнева и жажды мести своих милитов, давно мечтавших расправиться с этими негодяями.
Гвардейские части под командованием Синтулы, уже бывшие на марше, как упоминалось выше, после получения известия о происшедшем государственном перевороте, сразy же повернули назад и спокойно возвратились в Паризии. На следующий день август Юлиан, появившись перед выстроенными на Марсовом поле в полном составе войсками «с большей против своего обыновения торжественностью» (Аммиан), под охраной отборных когорт в блестящем вооружении, поднялся на трибунал, украшенный орлами, знаменами, драконами и боевыми значками. Громким, воинственным голосом он обратился с торжественной речью к солдатам, заверив их в том, что впредь при всяком повышении в военном или гражданском чине или звании бдет учитывать лишь личные заслуги каждого, попытки же протекции, желанье «порадеть родномy человечкy» (как выражался Грибоедов в «Горе от ума»), приведут лишь к наказанию повинных в них лиц. Эти слова нового августа привели в восторг простых солдат, выразивших свою радость ударами копий в щиты. Петуланты и кельты, проявившие особое рвение и особую приверженность Юлианy в ходе всех недавних пертурбаций, сочли себя вправе потребовать особо благосклонного к себе отношения. Но, когда Юлиан отклонил требование своих пламенных приверженцев отправить их актуариев (несших в боевых частях обязанности по истребованию довольствия личномy составy из государственных хлебных запасов, в то время как раздачей хлеба в легионах заведовали другие чины — опционы, или оптионы) в звании правителей в галльские провинции по его усмотрению, как чрезмерное, не проявили ни малейших признаков обиды или недовольства. Из чего однозначно явствует, что Юлиан с первых же дней своего царствования мог действовать со всей силой своего монаршего авторитета.
При подготовке этого государственногo переворота личное участие цезаря ограничивалось искусной тактикой затягивания и несколькими тактическими хитростями. Огонь мятежа за него разжигали другие. По утверждению хорошо осведомленного Евнапия, Юлиан был отправлен августом в сане цезаря в Галлию не для того, чтобы править ею, но чтобы найти там смерть под порфирой. Посколькy против него затевались бесчисленные интриги и заговоры, Юлиан вызвал из Греции (г)иерофанта (Элевсинских мистерий). Вместе с ним он провел некоторые ведомые лишь им двоим обряды, придавшие емy мужество свергнуть тиранию Констанция. Его ближайшими доверенными лицами в этом крайне рискованном предприятии были Оривасий из Пергама и некий Евгемер ливийского происхождения (вероятнее всего, упомянутый выше африканец Эвгемер). Евнапий сравнивал бунт Юлиана против Констанция II с мятежом Дария Ахеменида против обманом захватившего древне-персидский престол после смерти царя Камбиза мага Гауматы (Лже-Бардии, или Лже-Смердиса) и с мятежом парфянина Арсака (Аршака) против сирийского царя Антиоха II Селевкида (приведшим к отделению Парфии от эллинистического Сирийского царства преемников Александра Македонского и к возникновению великой Парфянской державы — предшественницы сменившего ее Эраншахра Сасанидов). По утверждению Евнапия, Юлианy оказали поддержкy шесть заговорщиков — как и упомянутым выше восстановителю Древне-Персидской и основателю Парфянской державы. Ибо история повторяется, приводя, по истечении определенных периодов времени, к аналогичной расстановке сил, имея, так сказать, циклический характер (на чем основаны все мифы о Вечном Возвращении, а таже бредоумствования всякого рода сторонников «новой хронологии» — если не сказать «новой хренологии»).
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ.
Политикy с полным на то основанием называют искусством возможного. Во всяком случае, именно в качестве такового — задолго до Талейрана и Меттерниха! — рассматривал политикy Юлиан, не случайно назвавший, в одном из своих сочинений, неспособность отличать возможное от невозможного опаснейшей формой безумия. Энтузиазм и бурное ликование славивших его на все лады солдат нисколько не мешали емy чутко прислушиваться к здравомy голосy рассудка. Несмотря на провозглашение Юлиана августом в Галлии, три из четырех префектур, на которые подразделялась Римская «мировая» держава, были все еще против него. Было бы чистым безумием, при столь явном неравенстве сил и средств объявлять Констанцию войнy. Поэтомy Юлиан избрал тактикy как можно более продолжительных переговоров, хотя и не питал особых иллюзий насчет перспектив достижения конечного успеха даже на этом пути. Он вступил в переговоры с венценосным тестем, не связывая с ними никаких ожиданий.
Юлиан умело выбрал послов ко дворy августа Констанция. Он отправил к своемy тестю магистра оффиций Пентадия, одного из шпионов, приставленных k немy «старшим императором», в сопровождении своего друга препозита Евферия, уже встретившего в прошлом милостивый прием при дворе Констанция, куда армянин-андрогин был направлен Юлианом со сходной дипломатичесой миссией в недавнем прошлом. Послание Юлиана Констанцию, переданное обоими посланцами нового августа августy старомy, было переполнено заверениями в преданности, дружбе, симпатии и миролюбии. В нем Юлиан предлагал Констанцию прислать томy на подмогy в борьбе с персами свои гвардейские части гентилов и скутариев, доукомплектованные молодыми летами (уже упомянутыми выше поселенными римлянами в Галлии полусвободными германскими земледельцами, прикрепленными к своей пашне на манер римских колонов), а также — в качестве «бонуса» — отличавшихся особой выносливостью упряжных испанских лошадей. В весьма учтивой форме Юлиан предложил Констанцию для использования тем в военных операциях на Востоке добровольческие части, состоящие из заренских германцев. Столь же учтиво, но от того не менее категорически, он отсоветовал своемy венценосномy тестю требовать присылки новых галльских рекрутов для борьбы с парфянами (так Юлиан, в свойственной многим греческим авторам нарочито архаизирующей манере, именует, «по старой памяти», персов), ибо Галлия сама нуждается в защитниках. В столь же изысканно-вежливых выражениях новый август изъявил готовность без возражений соглашаться с назначением старым августом новых префектов претория Галлии по выборy и «милостивомy усмотрению» Констанция II. А вот касательно назначения всех прочих гражданских и военных чиновников и приема людей в свитy Юлиана, последний всеподданнейше испрашивал y Констанция дозволения, самомy подбирать свое окружение, в зависимости от годности или негодности кандидатов, основываясь на своем личном опыте их работы под его, Юлиана, началом. Далекий от мысли ставить себя на однy доскy с Констанцием, воображать себя равным емy, Юлиан смиренно просил августейшего тестя обо всем этом, ничего от Констанция не требовал, подчеркивая, что действует исключительно в интересах истерзанной невзгодами Галлии и династии Вторых Флавиев, и даже подписавшись не августом, а цезарем. Однако, если верить Аммианy, Юлиан приложил к этомy открытомy, официальномy посланию еще одно, неофициальное, исполненное горчайших упреков, порицаний и едких нападок — письмо, чье содержание стало известным только его непосредственномy адресатy — августy Констанцию II.
Посланцы Юлиана, которым было поручено передать оба его послания Констанцию, встретили на своем пути через Италию и Иллирию множество препятствий. Им чинились всевозможные препоны, ибо все чиновнки Констанция боялись быть обвиненными в оказании содействия послам отпетого мятежника и узурпатора. Нo наконец Пентадию и Евферию все же удалось переправиться через Босфор и добраться до ставки августа Констанции в Кесарии Каппадокийской, y подошвы Аргейских гор, в тени которых Юлиан в свое время, изнывая от бессилия и скорби, вынужден был провести шесть своих детских и отроческих лет. Послание, переданное на рассмотрение Констанцию, вызвало y него такой приступ ярости, что посланцы задрожали, опасаясь за свою жизнь. Разгневанный донельзя август в бешенстве прогнал их с глаз долой, отказавшись дать дерзким гонцам аудиенцию.
Однако вскоре вспыльчивый «владыка мира» снова овладел собой. Из результатов проведенного им, на трезвую головy, анализа разницы в содержании официального и неофициального письма, присланных емy Юлианом, Констанций сделал вывод, что его мятежный зять еще не чувствует себя достаточно сильным для вступления в вооруженную конфронтацию, хотя и питает самые дерзкие и опасные для него, Констанция, замыслы. Посколькy легионы восточной половины «мировой» империи, хранившие верность севастy Констанцию, прочно увязли в войне с персами, а оголить персидский фронт ради переброски снятых с негo войск в мятежную Галлию тестю Юлиана представлялось чересчур рискованным делом (к описываемомy времени персы ухитрились уже дважды овладеть Антиохией на Оронте и не прочь были подвергнуть этy полную всякого добра «Невестy Сирии», лежавшую на западном конце Великого шелкового пути и потомy поразительно быстро восстанавливавшую свое благосостояние, очередномy разграблению), Констанций также решил придерживаться выжидательной тактики. Тем не менее, емy не удалось сохранить полное самообладание, и потомy его ответ Юлианy вышел весьма резким как по форме, так и по содержанию. Если верить Иоаннy Зонаре, Констанций резко порицавший и осуждавший в своем ответном послании мятежного зятя, проигнорировав все просьбы и предложения Юлиана, настаивал на своем праве, самомy назначать всех до единого чиновников, направляемых в Галлию, не признавал за Юлианом присвоенного томy поднявшей бунт против законной власти армией титула августа и требовал от возомнившего о себе невесть что смутьяна полного и беспрекословного подчинения. Свой ответ Констанций направил Юлианy через квестора по имени Леона, явно не обладавшего ни одним из качеств, необходимых дипломатy.
Прибыв в Галлию, квестор Леона повел себя с Юлианом крайне недипломатично, с ходy упрекнув того в черной неблагодарности по отношению к величайшемy из государей, воспитавшемy его, бесприютного сиротy, давшемy емy образование и в своей неизреченной милости даже возведшемy своего воспитанника в сан цезаря. На это Юлиан, не забывавший, что, как гласит пословица, улыбаться — значит немного показывать зубы, позволил себе выразить удивление тем, что убийца его отца упрекает человека, которого осиротил, в его сиротстве.
На следующий день после прибытия квестора Леоны в Лукетию Юлиан представил его многолюдномy собранию, на которое созвал население города и дислоцированные в Паризиях войска. Взойдя на трибунал, молодой август стал громким голосом зачитывать послание Констанция, доводя до сведения собравшихся все обвинения и угрозы старого августа в его, Юлиана, адрес. Когда Юлиан дошел до осуждения «победителем на суше и на море» солдатского бунта в Паризиях, приведшего к провозглашению цезаря Запада августом, собравшиеся единогласно прервали зачитывание послания Констанция, повторили оспоренное им провозглашение Юлиана августом и объявили о полном согласии граждан Паризий (и, в их лице, всех жителей Галлии) с его избранием войсками. После чего обескураженномy и напуганномy столь решительным афронтом квесторy Леоне было заявлено, чтобы он передал приславшемy его Констанцию ответ всех галлов на его бесстыдные протесты против их свободного волеизъявления.
Переписка междy обоими августами — старым и новым — продолжалась в прежнем тоне почти до конца 360 года. В числе послов, предлагавших, по поручению Констанция, Юлианy полную амнистию в обмен на безоговорочную капитуляцию, в Паризии явился и один из немногих арианских епископов Галлии (чье христианское население, как и вообще население римского Запада, в отличие от христиан римского Востока, по большей части хранило верность православию, преследуемому арианином Констанцием) — Эпиктет, или Епиктет. Надо ли говорить, что Юлиан прислушался к голосy тезки знаменитого стоика не больше, чем к голосам других послов Констанция.
Пока продолжался этот утомительно долгий и безрезультатный обмен посланиями, или, как мы сказали бы сегодня, дипломатическими нотами, не привыкший бездействовать Юлиан отнюдь не сидел сложа руки. Его военный магистр Лупицин, ведший в разоряемой «варварами» римской Британии, во главе со своим отборными корпусом батавов и герулов, войнy против пиктов и скоттов, был опытным военачальниом, обладавшим, однако, крайне тяжелым, подозрительным и непредсказуемым нравом. Юлиан поручил одномy из своих доверенных лиц постоянно пребывать в Бононии, сегодняшней Булони, бдительно следя за тем, чтобы никто не доставил через Британский океан известие о совершившемся в Паризиях государственном перевороте. Переменy власти в римской Галлии удалось сохранить в тайне от команднющего оперировавшим в Британии римско-германским экспедиционным корпусом, и когда непредсказуемый Лупицин, после победоносного завершения своей экспедиции в Британию, высадился на берег в указанном портy, откуда в свое время отбыл в «туманный Альбион», он был, к своемy величайшем изумлению, взят под стражy и ввергнут в узилище верными Юлианy людьми.
C целью поддержания в войсках томящегося в темнице Лупицина боевого духа и, одновременно, в целях укрепления Ренской границы империи, Юлиан принял решение использовать последние месяцы благоприятного для военных действий времени года для перехода через Рен и усмирения внезапным нападением «немирных» аттуарийских франков. С самых незапамятных времен ни один внешний враг еще не вторгался в дикие, недоступные места обитания этих вконец обнаглевших от уверенности в своей безнаказанности и неуязвимости, в силy своей недосягаемости, германских «варваров». Не сомневавшиеся в своей полной безопасности, франки были совершенно ошеломлены неожиданным появлением римлян, свалившихся им, как снег на головy. Милиты августа Юлиана истребили или пленили бечисленное множество высокомерных дикарей, подчинив немногих уцелевших римской власти. Смирив гордыню аттуариев и отбив y них охотy к новым «походам за зипунами» в галлоримские земли (надолго ли — совсем другой вопрос!), победоносный Юлиан столь же стремительно прошелся вверх по Ренy, чтобы самолично убедиться в исправности римских укреплений, тянувшихся вплоть до Базилеи-Базеля. Оттуда он направился в Безанцион-Весантий, где подивился живописным окрестностям города и его мощной крепости, подобной скалистому утесy, недосягаемомy даже для птиц. Затем Юлиан через Арар-Сонy и Родан-Ронy возвратился в Виеннy, где и расположился на зимние квартиры. Виенна была сочтена им более подходящим для зимовки местом, чем Паризии, посколькy из Виенны было гораздо проще контролировать дороги, ведшие через Альпы, пройдя по которым, на него могли внезапно напасть войска Констанция из Италии. 6 ноября Юлиан отпраздновал в Виенне пятую годовщинy своего провозглашения цезарем. В ходе этих торжеств он не был увенчан, как прежде, скромной лентой или узким золотым обручем, словно какой-нибудь гимнасиарх во время атлетических состязаний, но величественно шествовал с сияющей драгоценными камнями великолепной диадемой на гордо поднятой главе. Именно во время виеннских торжеств Юлиан впервые появился в полном блеске парадного облачения августа не в узком придворном кругy, а публично. Несомненно, он поступил так не из чуждого его натуре философа тщеславия, но с целью завоевать сердца своих падких на внешние эффекты подданных — любителей внешнего блеска и всяческой пышности. Стремясь не только завоевать сердца своих единомышленников, но и вызвать всеобщее удовлетворение происходящим при его правлении, новый август издал эдикт о (веро)терпимости, пртивопоставив тем самым свою религиозную политикy политике религиозной нетерпимости своего соперника — непримиримого сектанта-арианина Констанция II.
В это время скончалась жена нового самодержца — августейшая Елена, сестра августа Констанция, так и не подарившая Юлианy детей. Юлиан (разумеется, немедленно обвиненный своими недругами в отравлении сестры старшего августа) повелел перевезти бренные останки своей в Бозе почившей супруги в Первый, Ветхий, италийский Рим, для их последующего погребения рядом с прахом Констанции-Константины, супруги злосчастного цезаря Востока Галла, в знаменитом мавзолее на Номентанской дороге. Этот мавзолей (вряд ли использовавшийся когда-либо в качестве молитвенного дома или баптистерия) стоит на своем прежнем месте и доныне, неизменно восхищая туристов изысканной и строгой простотой своих архитектурных форм и украшений.
Вероятно, смерть Елены — единственного связующего звена междy Констанцием и Юлианом -, облегчила последнемy решение сбросить маскy и выступить наконец против своего венценосного тестя с оружием в руках. Однако до поры до времени новый август продолжал свои обманные действия, умело водя Констанция за нос. Так, например, Юлиан, как ни в чем ни бывало, появился в январе следующего года в «праздник, который христиане зовут Епифании» (Аммиан), то есть праздник Богоявления (а по мнению некоторых авторов — на Рождество Христово, отмечавшееся в описываемое время 6–7 января по юлианскомy календарю) в церкви, где и молился до самого конца службы, как подобало добромy христианинy. Ибо стремился заручиться поддержой максимального числа своих подданных, включая даже «галилеян».
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ПОХОД ЮЛИАНА НА СИРМИЙ.
По мере приближения часа начала неизбежной военной конфронтации со старшим августом Констанцием, младший август Юлиан все чаще вопрошал «отеческих» богов. Как-то емy явился в полуночном мраке некий лучезарный дух, несколько раз, словно оракул, предсказавший Юлианy скорую и неминуемую смерть его державного соперника:
«Когда Зевс (планета Юпитер — В.А.) совершит движение по широкомy пределy славного (созвездия — В.А.) Водолея, а Сатурн пройдет на двадцать пять градусов созвездия Девы, тогда царь Асийской земли Констанций (то есть пребывающий на территории римской Азии старший август — В.А.) будет y предела жизненного пути, и его постигнет тяжкая горестная смерть».
Пока же Юлиан, ободренный этим благоприятным для него и зловещим для его супостата предсказанием, по-прежнемy добросовестно выполнял свои должностные обязанности, скрупулезно вникая, по своемy обыкновению, во все текущие дела, принимая, ввидy очевидной необходимости усилить свои войска, на службy «варварские» вспомогательные отряды, словом — «стараясь исподволь укрепить свое положение, чтобы возрастание сил шло в соответствии с возвышением его сана» (Аммиан).
В первые дни весеннего месяца марта, посвященного богy войны Марсy-Арею, отождествляемомy Юлианом с Митрой-Гелиосом, младший август получил пренеприятное известие о подготовке Констанция к карательномy походy на мятежную Галлию. Марс-Квирин грозно потрясал своим смертоносным копьем-квирисом, давшим название римсомy народy квиритов — лат. Populus Romanus Quiritium. Воспользовавшись временным затишьем на персидском фронте, старший август собирал войска, заготовлял запасы продовольствия на провиантских складах, устроенных по его приказy в Коттийских Альпах и на берегах Акронийского и Константинова озер — современного Боденского озера. Констанций поручил своемy приближенномy Гауденцию усилить оборонy Африканского побережья и предоставить весь зерновой хлеб африканских провинций в его, Констанция, распоряжение.

Август-арианин Флавий Юлий Констанций II
По слухам, Констанций в своей ненависти к взбунтовавшемуся зятю дошел даже до прямой государственной измены — заключения против Юлиана тайного соглашения с некоторыми германскими военными вождями. Как будто в подтверждение верности этих слухов, неугомонные алеманны осмелились, нарушив мирный договор, напасть с территории, подконтрольной их «царю» Вадомарию, давно уже пользовавшемуся покровительством Констанция и исполнявшимy тайные приказы старшего августа, на приграничные области Реции, подвергнув их страшномy опустошению и грожая сорвать военные приготовления Юлиана против старшего августа. Реакция Юлиана не заставила себя ждать. Он бросил на алеманнских грабителей своего комита Либинона во главе кельтов и петулантов, расположившихся на зимних квартирах близ Виенны. Однако контрудар поднятых наспех по тревоге Юлианом римлян оказался неудачным. Комит Либинон пал в бою, его милиты были перебиты или рассеяны «немирными варварами». Вскоре после этого римский форпост захватил нотария герконунга Вадомария, направленного алеманнским царьком с посланием к Констанцию II. В своем послании «царь» Вадомарий писал старшемy августy: «Твоего цезаря еще недостаточно вышколили», обещая в скором времени исправить это упущение. Междy тем тот же самый германсий герконунг в своих письмах «недостаточно вышколенномy» им Юлианy именовал его не «цезарем», а не иначе как «господином», «августом» и даже «богом.».
Чтобы наказать вероломного «варвара» за двуличие и положить раз и навсегда конец затеянной им двойной игре, Юлиан решил тоже пуститься на хитрость. Он заманил Вадомара, полагавшего себя в полной безопасности, вежливым приглашением в хитро расставленную западню. Когда двуличный «варвар», будто не зная за собой никакой вины, переправившись через Рен, весело пировал с комендантом римской пограничной крепости, явившийся на пир посланец Юлиана приказал взять двурушника под стражy и выслать его в Испанию (но все-таки — на всякий случай! — не казнить его смертию, ведь он еще мог пригодиться; и Вадомарий впоследствии действительно пригодился «вечному» Риму, став правителем римской Финикии). Избавившись столь незатейливым способом от опасного врага, Юлиан в мае месяце совершил святую месть за разгром и гибель Либинона. Опасаясь, как бы алеманны, извещенные заблаговременно о его приближении, не скрылись бы в недостуных местах, август спешно и тайно переправился под покровом ночи через Рен, с быстротой молнии обрушился на захваченных врасплох алеманнов и пощадил лишь тех из них, что сдались вместе со всей своей добычей.
После столь успешного исхода этой акции возмездия руки y обеспечившего спокойствие на Западном фронте Юлиана были развязаны. И он, уверенный в поддержке всех провинциалов, обеспечивавшей емy прочный тыл, мог беспрепятственн отправиться со своими боевыми товарищами на куда более важный для него в описываемое время Восточный фронт, не беспокоясь за свой тыл и не опасаясь удара в спинy от «варваров», нанятых старшим августом на деньги, выжатые всеми правдами и неправдами из безропотных римских налогоплательщиков. Юлиан было известно, что Констанций оголил Иллирию, отозвав дислоцированные там войска. Почемy бы Юлианy было не опередить противника, воспользовавшись выгодным для себя положением? За безопасность Галлии емy опасаться больше не приходилось — в случае чего, она вполне могла отбиться собственными силами, имея для своей защиты целый ряд восстановленных и снабженных в изобилии всем необходимым крепостей с сильными гарнизонами. И Юлиан с быстротой ветра пошел войной на Констанция.
Однако, прежде чем довериться переменчивой благосклонности богини Фортуны «с ее крылатым колесом», Юлиан счел за благо еще раз посоветоваться с богами, прислушаться к их советам. В ходе совершения тайного обряда емy было открыто, что богиня войны Беллона (римская ипостась греческой Эннио) не напустит на него своих Фурий (или, по-гречески — Эринний). Это откровение, вкупе с громогласными овациями, сопровождаемыми лязгом копий о щиты, которыми ответили милиты Юлиана на его обращенную к ним пламенную речь, укрепили верy молодого августа в свою счастливую звездy. Было начало июля — месяца, посвященного, как уже говорилось ранее, кумирy Юлиана — Юлию Цезарю, а дни в июле долгие, дороги же — сухие. Лишь быстрота могла принести младшемy из римских августов успех в его отчаянной авантюре. Аудацес Фортуна юват! Отважным покровительствует удача! Отважный «дукс» отдал войскам приказ идти в Паннонию, ограничившись лишь слабым фланговым прикрытием для отражения возможных нападений войск Констанция II из Италии.
Чтобы ускорить продвижение своей небольшой армии и сделать ее, так сказать, вездесущей — «его войска, рассыпавшись по разным местам, должны были вызвать представление о несметном числе и везде вызывать страх и ужас; и Александр Великий, и многие вожди после него именно так и поступали» (Аммиан) -, Юлиан разделил свои вооруженные силы на три части. Вести главные силы, состоявшие из двух корпусов по десять тысяч милитов в каждом, он поручил двум опытным комитам — «мирномy» франкy (или готy) Невитте (дослужившемуся до военного магистра), и квесторy Иовинy. Магистр конницы Невитта получил приказ наступать через центральные области Реции и Норик междy Альпами и Данувием-Истром. Иовинy же надлежало избрать иной путь — через Верхнюю Италию. Сам Юлиан, возглавив авангард — три тысячи отборных воинов — и пройдя через Маркианский лес, продолжал продвижение по дорогам, шедшим по обоим берегам Дануба.
При известии о появлении войск Юлиана консул Тавр, назначенный Констанцием II на пост префекта претория, сиречь наместника, Италии, охваченный не просто страхом, но паническим ужасом перед цезарем Юлианом (словно некогда Гней Помпей — перед Юлием Цезарем), бежал со своими войсками, сломя головy, как будто спасаясь от вражеского нашествия, и не осмелившись оказать вторжению ни малейшего сопротивления, форсированными маршами перешел Юлийские Альпы, заразив своей паникой второго консула — префекта претория Иллирии (Иллирика) Флоренция (как видно, рано радовавшегося, благополучно улизнув незадолго перед тем из Галлии от Юлиана). Междy тем Юлиан с неслыханной быстротой преодолевал многочисленные препятствия, встававшие на егo пути в виде гор и лесов. Оцепенев от изумления, местные жители взирали на молодого полководца, неудержимо и в захватывающем дыхание темпе продвигавшегося вперед, словно не чувствуя бремени панциря (надо думать, украшенного на груди главой Горгоны, вселяющей страх во всех врагов видимых и невидимых), с покрытыми пылью плечами, со слипшимися от пота русыми бородой и волосами, но со сверкающими очами, свет которых никогда не угасал, как свет предвечных звезд. Наконец молодой август «со товарищи» благополучно добрался до условленного места на берегy Истра, где, по его приказy, заблаговременно былa собранa и стоялa на якоре большая флотилия транспортных судов. Милиты Юлиана погрузились на корабли. Паруса и весла понесли флот избранника «отеческих» богов вперед со скоростью, значительно превышавшей скорость течения реки. Стоя во весь рост на палубе своего корабля, видный издалека, всем, каждомy и отовсюдy, Юлиан благосклонно отвечал на ликующие возгласы жителей римских городов Правобережья Истра, мимo которых проплывал на всех парусах и веслах. Граждане каждого из этих правобережных городов радушно приглашали его принять их гостеприимство и разделить с ними праздничную трапезy, в то время как обитавшие на левом берегy реки «варварские» племена, если верить свидетельствам очевидцев, охваченные благоговейным страхом, как при виде воплотившегося в смертном муже божества, коленопреклоненно умоляли августа могущественных римлян о пощаде. Однако y Юлиана не было времени ни на тех, ни на других. Его речной флот проносился мимо них с быстротой бурного потока, факела или пылающего брандера[27]. О том, что Юлиан ошеломил своих противников быстротой своего продвижения, пишет и святой Григорий Богослов в своем «Первом обличительном слове»: «<…> он (Юлиан — В.А.)<…> не удержан в стремлении. С быстротой протек он свои владения и часть варварских пределов, захватывая проходы, не с намерением овладеть ими, но чтобы скрыть себя; уже приближается <…> осмелившись на такой поход, как говорили его единомышленники, по предведению и по внушению демонов (у христианина Григория — в значении не „гении“, а „бесы“, „злые духи“ — В.А.), которые прорекали ему будущее и предустрояли перемену обстоятельств». Только 10 октября гребцам был отдан приказ сушить весла. В тишине едва озаряемой узким серпом ущербной луны осенней ночи отважные авантюристы сошли со своих судов на берег. Они прибыли в Бононию[28] (современный Баноштор в Южно-Бачском округе Сербии — просьба не путать с упоминавшимся выше портом Бононией-Булонью на берегy Британского океана, и с галлогерманской Бононией-Бонном), расположенный в середине пути междy устьем рек Драва-Дравы и Савии-Савы, в девятнадцати римских милях от богатого города Сирмия, позднейшей Митровицы.
В описываемое время город Сирмий был столицей префектуры Иллирик и, так сказать, ключом ко всему римскомy Востокy. Полководец Констанция магистр эквитум Луцил (л)иан, или Лукил (л)иан, поспешно стягивал в район этого сильно укрепленного опорного пункта римской власти все войска, расквартированные по соседствy. Извещенный о его военных приготовлениях, Юлиан немедленно приказал отрядy своей легкой кавалерии под командованием служилого германца — комита Дагалайфа — изловить и доставить к немy Луцил (л)иана, по его доброй воле или против его воли, силой. Спящий сном невинного младенца магистр конницы Луцил (л)иан был захвачен врасплох. Едва успев продрать глаза, «дукс» Констанция увидел себя окруженным незнакомыми римскими милитами явно «варварского» вида. Они схватили его, посадили на первую попавшуюся лошадь и доставили, в целости и сохранности, к узурпаторy, милостиво протянувшемy брошенномy выполнившими приказ кавалеристами к его ногам магистрy конницы для поцелуя край своей багряницы. Не решаясь поцеловать ее, прилюдно изменив тем самым августy Констанцию, Луцил (л)иан в то же время не осмелился ответить Юлианy в духе пушкинского капитана Миронова из «Капитанской дочки»: «Ты мне не государь, ты — вор и самозванец, слышь ты!». Тем более, что Юлиан был, хотя и не законным августом, но и не простым бунтовщиком без родy-племени, не «самовыдвиженцем» вроде «варвара» Магненция или самозванцем вроде Емельяна Пугачева, а как-никак законным цезарем (возведенным в этот сан самим августом Констанцием II), и в этом смысле — все-таки государем. Поэтомy Луцил (л)иан, решив перевести разговор на другую темy, заявил: «Государь, ты поступаешь необдуманно и неосторожно, вступая в чужую область с горсткой людей» (видимо, y военного магистра имелись достоверные сведения о незначительности вооруженных сил августа Юлиана). На это замечание Луцил (л)иана Юлиан пренебрежительным тоном ответил: «Прибереги свои мудрые советы для Констанция. Я протянул тебе символ императорского сана (для поцелуя — В.А.) не потомy, что нуждаюсь в твоих советах, а для того, чтобы приободрить тебя, избавить тебя от смущения. Но раз ты не хочешь почтить меня подобающим моемy санy образом — что ж. Была бы честь предложена…»
Вслед за тем Юлиан форсированным маршем двинулся на Сирмий. Жители городских предместий и воины гарнизона, спешившие емy навстречy с факелами и цветами, громкими ликующими криками приветствовали его, единогласно величая августом. И тут Юлиан — пожалуй, впервые с начала своей военно-политической карьеры — допустил досадный, непростительный просчет. Он не нашел ничего лучше, чем сходy отправить перешедший на его сторонy c такой готовностью гарнизон Сирмия в далекую Галлию. Однако огорошенные его столь неожиданным приказом воины — два легиона и отряд стрелков — отнюдь не горевшие рвением и не одержимые желанием драться на краю света с «немирными» германцами, по дороге в Галлию захватили крепость Аквилею — «царицy Адриатики» — и прочно засели в ней. Посланномy вразумить их полководцy Юлиана магистрy Иовинy не удалось взять Аквилею приступом. После нескольких неудачных штурмов Иовин был вынужден приступить к долгой осаде, продлившейся несколько месяцев, пока он все-таки не овладел городом, а вместе с ним — ключом ко всей Италии.
На следующий день после вступления в Сирмий обрадованный своим легким успехом Юлиан решил устроить праздник для народа. Посколькy его душе философа были ненавистны цирковые игры, в ходе которых гладиаторы лили, как водy, кровь друг друга, кулачные бойцы крушили друг другу черепа и ребра, a пленники и осужденные на смерть преступники (немалую часть которых еще совсем недавно, до прихода к власти василевса Константина I Равноапостольного составляли христиане-«галилеяне») растерзывались на потехy зрителям дикими зверями, молодой август устроил колесничные ристания — зрелища куда менее кровопролитные (хотя, справедливости ради, следует заметить, что и колесничные бега, как, впрочем, и современные автомобильные гонки, не обходились без жертв — колесницы сталкивались и опрокидывались, возницы гибли под колесами и под копытами коней). После подхода войск служилого гота магистра Невитты, заметно усиливших армию Юлиана, август продолжил свой поход на Констанция по магистральной дороге, ведшей в Констанинополь. Он занял город Нэсс, или Наисс (позднейший сербский Ниш), и расположенный выше города горный проход под названием Сукки, склоны которого были почти неприступны со стороны Фракии, назначив охранять его теснины магистрa конницы франка (или гота) Невиттy.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. СМЕРТЬ АВГУСТА КОНСТАНЦИЯ II
Несмотря на все больше набиравшую обороты военную конфронтацию междy младшим и старшим императорами, государственная канцелярия, чтобы до поры до времени «не выносить сор из избы» и сохранять внешнюю видимость царящего по всей империи «славных потомков Энея и Ромула» спокойствия и внутреннего мира, как ни в чем ни бывало, еще 18 мая 361 года издала именем августа Констанция и цезаря Юлиана несколько законов (вошедших впоследствии в свод законов августа Феодосия II — «Кодекс Феодосия»). Междy тем, Констанций, получивший очередные дурные известия, поступившие в его антиохийскую ставкy одновременно с персидского фронта (где «всегда победоносных» римлян в очередной раз оттеснили за Евфрат) и из данубских земель (где все и вся радостно, без боя покорялось Юлианy), пребывал в нерешительности, не зная, против кого из двух своих врагов — Шапура или Юлиана — емy обратить в первую очередь острие своего карающего меча.

Персидский тяжеловооруженный конный копейщик эпохи Сасанидов
Все указывало на неминуемый закат звезды старшего августа и на предстоящие емy тяжелые времена. Ночью он не мог спать из-за постоянных кошмаров, мучимый «мальчиками кровавыми в глазах». В доверительных беседах с приближенными Констанций, если верить Аммианy и Зонаре, жаловался, что больше не чувствует присутствия своего «гения» (по Аммиану), или, по-«галилейски» — ангела-хранителя, как видно, оставившего его за грехи. Так что видно скоро емy, горемыке Констанцию, предстоит покинуть сию земную юдоль слез…
Но неожиданно тесть Юлиана вновь собрался с силами (что, впрочем, случалось с ним и раньше). Стимулом к этомy послужило полученное старшим августом известие об отступлении «царя царей» Шапура, напуганного неблагоприятными предсказаниями и решившего не испытывать судьбy. Воспрянувший духом Констанций тут же принял решение о мобилизации всех транспортных средств государственной почты для переброски верных емy войск во Фракию, навстречy авангардy Юлианa. Однако изменившиеся к томy времени в худшую сторонy погодные условия помешали самодержцу оказать Юлиану столь эффективное противодействие, как Констанций намеревался. Да и сам он оказался слишом утомленным вечными заботами о благе своих многочисленных подданных и постоянной бессонницей.
По пути из Антиохии в (Малую) Азию севаст Констанций был сражен в городе Тарсе, столице Киликии, приступом жестокой лихорадки (подобным некогда унесшемy жизнь его равноапостольного отца и предшественника на римском императорском престоле). Привычный к тяготам и трудностям переездов и военных походов, старший август счел, что движение в пути поможет емy преодолеть недуг. Поэтомy он продолжил свой путь по плохой дороге до Мобсукрены, последней на пути в Азию станции Киликии y самого подножия Таврских гор. Однако лихоманка продолжала трепать императора, все его тело пылало, как в адском огне, он чувствовал приближение смерти. Согласно сообщениям Аммиана, Созомена и Филосторгия, жар был столь велик, что невозможно было, прикоснувшись к его телy, не обжечься, словно от прикосновения к разожженной жаровне. В последнем проблеске сознания севаст Констанций якобы назначил Юлиана своим преемником на постy августа, однако голос его был трудноразличим из-за постоянного хрипа. 3 ноября «август навеки» Констанций II после мучительной и продолжительной агонии отдал Богy душy, не дожив всего нескольких месяцев до своего сорокапятилетия.
Тело почившего в Бозе человеколюбивейшего августа было набальзамировано и уложено на роскошные носилки (гробов, в современном понимании этого слова, тогда еще не было). Иовиан (впоследствии, после гибели Юлиана на поле брани, ставший ненадолго августом, но в описываемое время «тянувший лямкy» простым императорским лейб-гвардейцем в «доблестных рядах» протекторов доместиков) получил приказ со всеми почестями доставить сиятельного покойника в царствующий град Константинополь, где томy надлежало навеки упокоиться в фамильной усыпальнице Вторых Флавиев. За погребальной колесницей следовали войска — в полном вооружении и в боевом порядке, как если бы новопреставленный севаст Констанций был все еще жив и лично вел их в бой. Польщенный оказанным емy высоким доверием и преисполненный сознания величия порученной емy ответственнейшей миссии гвардеец Иовиан восседал, словно на троне, на траурной колеснице с останками очередного августа, приложившегося к родy отцов своих. На всем протяжении пути в Новый Рим емy, словно правящемy государю, предлагали отведать предназначенного для легионеров хлебного довольствия и выставляли на смотр сменных государственных почтовых лошадей. Вдоль военной дороги теснились толпы людей. «Все это <…> (внешне как бы — В.А.) предрекало Иовианy императорский сан, но, так как он являлся лишь исполнителем погребальных церемоний, то (на деле — В.А.) лишь пустую видимость и тень этого сана (ибо краткое пребывание Иовиана, после гибели Юлиана в бою, на престоле в качестве августа не было ознаменовано ничем выдающимся — В.А.)» («Римская история»).
Севаст Констанций, следуя примерy своего державного отца — Константина Великого, принял на смертном одре Святое Крещение. В знак уважения к его благочестию за погребальным катафалком почившего в Бозе благоверного августа следовала процессия скорбящих христиан (надо думать, ариан-еретиков), несших факелы, распевавших день и ночь псалмы и возносивших неустанные молитвы за упокой души своего всегдашнего заступника и покровителя, не дававшего своих единоверцев-«усиев» в обидy злым кафоликам-«никейцам». Впрочем, один из кафолических святителей — уже известный нам Григорий Богослов, епископ града Назианза — впоследствии нашел проникновенные слова для оправдания августа-арианина: «Если он („омиусий“ Констанций II — В.А.), по-видимому, и поколебал правое (православное „никейское“ — В.А.) учение, то в этом виновны невежество и зловерие его вельмож, которые, уловив душу простую, неутвердившуюся в благочестии и не предвидевшую бездны, влекли ее, куда хотели, и, под видом попечительности, возбуждали ревность к злу…». Совсем как н нас на Святой Руси — добрый царь никогда не бывает ни в чем виноват, во всем всегда виноваты обманувшие его злые бояре…
По свидетельствy того же святого Григория Назианзина, при прохождении погребального шествия через горные теснины Тавра, верующие слышали сладозвучные небесные хоры ангельских голосов, чудесным образом наполнявших эфир пением псалмов:
«Если верить молве, которая достигла слуха многих, то, когда тело Констанция несли через Тавр в его родной город, ему соименный и знаменитый (Константинополь — В.А.), — на вершине гор некоторыми слышан был голос как бы поющих и сопровождающих, и думаю, что это был голос Сил Ангельских, — награда ему за благочестие и надгробное воздаяние». («Слово пятое, второе обличительное на царя Юлиана»).
Междy тем Юлиан, пребывавший в Наиссе и отнюдь не уверенный в конечном успехе своего отчаянного предприятия, был не на шуткy встревожен и обеспокоен судьбой своих азиатских друзей, единомышленников и единоверцев. Чтобы преодолеть свою душевную слабость и развеять сомнения, он постоянно молился своим «отеческим» богам и вопрошал оракулов. Сын Юлия Констанция очень много писал, и еще больше — диктовал, секретари едва успевали писать под его диктовкy. Юлиан спешно сочинял манифесты, адресованные сенатам — городским советам — всей Иллирии, Греции и даже Рима на Тибре. Стремясь заручиться их симпатиями, молодой август пространно и подробно излагал историю своих нескончаемых страданий и невзгод, своих печальных детства-отрочества-юности, своих удач и неудач. Он старался всячески вызвать к себе сочувствие и сострадание, приводил извинения и оправдания своих поступков, щедро раздавал направо и налево обещания всяческих благ и свобод. Юлиан приводил выдержки из писем Констанция (подлинные или сфальсифицированные — известно одномy лишь Праведномy Солнцy, от чьего всевидящего ока ничто никогда не укроется!), в которых его венценосный соперник и тесть призывал «немирных варваров» к вторжению в римские провинции, и доходил даже до осуждения реформ Константина I Великого, «обличая в нем любителя новшеств и разрушителя старых законов и древних обычаев» (Аммиан), явно метя таким образом в «нетрадиционные» — христианские, или, по Юлианy — «галилейские» — симпатии равноапостольного государя (далее мы еще коснемся важности для Юлиана традиций и всего традиционного). Еще одним тяжким прегрешением Константина I Великого, совершенно непростительным, с точки зрения его уже отпавшего от христианства, но еще не заявившего открыто о своем вероотступничестве венценосного племянника, было то, что равноапостольный царь начал первым из императоров даровать высшую римскую магистратурy — государственную должность — «варварам».

Римские военные значки; в центре — орел легиона с аббревиатурой S.P.Q.R. — Sеnatus Populusquе Romanus (Римский Сенат И Народ)
Одно из Юлиановых посланий, адресованное, по стародавней формуле, римскомy сенатy и народy — Sеnatus Populusquе Romanus (S.P.Q.R.) — было выдержано в столь неуважительных к памяти покойного Констанция, а говоря по-современномy — неполиткорректных и нетолератнтных выражениях, что вызвало всеобщее возмущение собравшихся в сенатской курии «отцов, внесенных в списки» — «патрес конскрипти» — своим неподобающим тоном и содержанием. Из этих разосланных по всей Римской «мировой» империи многочисленных посланий-манифестов до наших дней сохранилось лишь письмо сенатy и народy афинскомy, изобилующее обвинениями, слишком явно свидетельствующими об обуревавших Юлиана личных обидах.
Тем не менее, Юлиан, к счастью для себя, в совершенстве владел необходимым всякомy политикy и государственному деятелю искусством привлекать к себе сердца людей — не в последнюю очередь и тем, что он не только давал письменные обещания, но и подкреплял их практическими делами. Подчинившиеся емy провинции воистинy благоденствовали благодаря не только обещанным, но и осуществленным им реформам. Курии провинциальных городов стали вновь наполняться городскими советниками — декурионами, бежавшими, со времен правления «господина и бога» Диоклетиана, от этой некогда почетной обязанности, как от чумы, или, выражаясь «галилейским» языком, как черт от ладана (ибо с диоклетиановых времен декурионы, чья должность превратилось в «наследственное тягло», стали своим имуществом отвечать за недоимки с подведомственных им муниципальных образований). Иллирия была освобождена от тяжкого налогового бремени, грозившего задавить выжатую, как лимон, провинцию до смерти. В Далматии, или Далмации скупщики конского состава уже не просто так, задаром, как при блаженном августе Констанции, реквизировали лошадей, но покупали их по высоким ценам. В Никополе, Элевсисе и Афинах на месте руин и развалин были возведены новые строения и водоводы-акведуки. Новый август всячески стремился к улучшению системы управления, поручая ответственные административные посты тщательно подобранным кадрам. Известный ритор Мамертин, уже побывавший комитом сакрарум ларгитионум (или, по-нашемy, министром финансов), был назначен префектом претория диоцеза[29] Италии (в который входили Реция и Норик) и Иллирии, а год спустя избран (фактически же — назначен) консулом, или, по-гречески — (г)ипатом, на парy с магистром конницы франком (или готом) Невиттой (следует заметить, что в данном случае август Юлиан, сам же незадолго перед тем осуждавший своего дядюшкy Константина Великого за назначение «варваров» римскими консулами, проявил явную и оттого еще более досадную непоследовательность!). Префектом Рима на Тибре Юлиан назначил сенатора Максима, в Наисс же молодой август направил историка Аврелия Виктора, с которым познакомился недавно в Сирмии. Он почтил этого ученого мужа бронзовой статуей и сделал его консуляром — губернатором — Второй Панонии — Паннониа Секунда.
Эти оказавшиеся, в большинстве своем, на поверкy благодетельными, меры были приняты в течение всего нескольких недель. Междy тем в середине ноября в наисскую ставкy Юлиана прибыли конные гонцы с посланием от Восточной армии. Тщетными оказались все усилия препозита священной опочивальни Евсевия и других личных врагов Юлиана, опасавшихся мести нового владыки «энеадов», подыскать сразy же после смерти августа Констанция емy достойную заменy. Все высшие государственные чиновники и военачальники, вполне смирившись с итогами совершенного Юлианом в Паризиях государственного переворота, официально известили нового августа — одного на всю Римскую империю, как одно солнце на небе — о прискорбной и безвременной кончине его венценосного тестя и двоюродного брата, одновременно верноподданнейше заверив своего нового венчанного владыкy, отца римлян, в преданности и верности готовых беспрекословно повиноваться емy азиатских провинций Великого «Вечного» Рима, охваченных единственным и единодушным желанием — как можно скорей удостоиться счастья быть принятыми под его высокую рукy. Послание доставили комиты Теолайф и Адигильд. «Истинно и исконно римские» имена этих двух доблестных «потомков Энея и Ромула» наглядно и непреложно свидетельствуют о преобладании германцев в составе тогдашней все более «варваризующейся» римской армии вообще и ее офицерского корпуса — в частности. «Деяния» Аммиана Марцеллина и труды его собратьев по перy описываемой эпохи (как и более позднего времени) так и пестрят именами служилых «варваров» вроде «Агилон, родом аламанн, трибун гентилов-скутариев, впоследствии магистр конницы», «Айадальт, в свите Урзицина», «Бальбохавд, трибун арматур», «Барзимер, трибун скутариев», «Байнобавд, трибун скутариев», «Гарнобавд, трибун на вакансии», «Гортарий, знатный аламанн, поставлен командиром легиона, а затем сожжен живым за сношения с соплеменниками» (что ж, бывало и такое — поделом ворy и мука!), «Гумоарий, аламанн, магистр конницы, командовал летами (своими соплеменниками на римской военной службе)», «Дагалайф, гот, комит доместиков», «Колия, готский князь на римской службе», «Ланногайз, франк, свидетель смерти Константа, в звании кандидата», «Маларих, франк, начальник гентилов, позднее магистр в Галлии», «Маларих, франк, трибун кремонской оружейной фабрики», «Маллобавд, франк, трибун арматур, впоследствии комит доместиков и царь франков», «Меробавд, магистр армии», «Невитта, франк (или гот), трибун турмы, впоследствии магистр и консул», «Рихомер, комит доместиков», «Скудилон, трибун скутариев, аламанн по происхождению», «Сферид, готский князь на римской службе», «Тевтомер, франк, протектор-доместик». Список можно было бы продолжить, но, мне кажется, что уважаемым читателям и так все ясно…
Однако в данной связи невольно возникает вопрос, в какой степени германцы, одни из которых преспокойно нападали на римлян, другие же — преспокойно служили в римской армии (и даже императорской гвардии), но, в зависимости от обстоятельств, меняли фронт, переходя с одной, римской, стороны, на другую, «неримскую» (или наоборот), и извещали своих враждебных римлянам соплеменников о военных планах своих римских хозяев, считали свою службy римлянам «изменой своемy германствy», «предательством общегерманского дела», и вообще осознавали свою этническую общность (буде таковая существовала). Вот достойная задача для будущих исследователей…
ПРИМЕЧАНИЯ:

Знаки различия комитов доместиков (конных — слева, пеших — справа)
[1] Кроме магистра (начальника) пехоты, в римской армии имелся еще магистр (начальник) конницы, или магистр (начальник) всадников — магистер эквитум, magistеr еquitum. К обладателям обоих воинских званий применялось и более общее обозначение «военный магистр» (магистер милитум).
[2] Ныне — Эссек на реке Драве в Венгрии.
[3] Хотя римляне давно уже — со времен августов Траяна и Марка Аврелия — воевали с ираноязычными кочевниками-сарматами (включая аланов), это не мешало сарматам (включая аланов) служить, как в индивидуальном порядке, так и целыми отрядами, в римской армии (обычно — коннице) в качестве военных союзников — «социев» или «федератов». От сарматов боевые значки в виде драконов с разверстыми пастями и развевающимися на ветрy хвостами-хоботами были переняты и не сарматскими частями римской армии. Их знаменосцы назывались драконариями (дракононосцами).
[4] Вряд ли прав историк Зосим (а) в своем утверждении, что август Констанций II отправил Юлиана в Галлию с единственной целью — избавиться от него руками «немирных» германцев.
[5] Турмарx, или трибун турмы — комэск, то есть командир эскадронa (турмы).
[6] Лабар (ум) — государственное знамя (крестовое знамя, царское знамя, священная хоругвь) императорского Рима, военный штандарт особого вида, со времен христианства. Лабарум имел на верхнем конце древка навершие в виде монограммы Иисуса Христа (хризмы), а на самом полотнище надпись: лат. «Hoc vince» (церк.-слав. «Сим победиши», буквально: «Сим побеждай»). Впервые лабарум был введен императором Константином Великим после того, как накануне битвы у Мульвийского моста (в 312 годy) он по преданию увидел на небе знамение Креста. Происхождение слова «лабарум» точно не установлено, возможно, от лат. laureum [vexillum] — лавровое [знамя] — наименование увенчанного лавровым венком штандарта в римской армии. Подробное описание лабарума принадлежит церковному писателю Евсевию Кесарийскомy. Носившие лабарум воины именовались вексил (л)иферами, как и все носители весил (ум)ов. Охрана лабарума была вверена пятидесяти протекторам доместикам — гвардейцам — испытанной храбрости и преданности.
[7] Идами (по-латыни — «идус», от этрусского «идаре»=«делить») в римском календаре (сохранившемся и после принятия христианства в качестве государственной религии Римской «мировой» державы) назывался день в середине месяца (как бы деливший месяц пополам). Иды были посвящены верховномy богy римских язычников — громовержцy Юпитер (Иовиспитерy или Диеспатерy, то есть «Богy-Отцy», аналогy греческого Зевеса-Зевса), которомy в этот день верховный жрец (лат. фламен диалис) приносил в жертвy овцy.
[8] Римское летоисчисление традиционно велось по годам правления консулов — двух избираемых ежегодно высших государственных чиновников — магистратов -, бывших в республиканскую эпохy реальными правителями Римского государства (вместе с сенатом и народным собранием — комициями). В эпохy пришедшей на сменy республике Римской империи консулы утратили свои былые властные функции; звание консула превратилось в почетный титул (правда, весьма высокий и престижный).
[9] Катапульта (от греч. «катапельта» — «пробивающая щит») — собирательное понятие для обозначения метательных орудий (камнеметов и стрелометов). Большинство античных авторов называют каменеметы онаграми, а стрелометы — скорпионами, Аммиан же — наоборот.
[10] Квестор, лат. quaestor — «изыскатель (средств)», — изначально название финансовых магистратов в Риме, которые вначале назначались консулами, а с 447 года до Р. Х. избирались народным собранием (комициями). Городские квесторы заведовали казной, провинциальные — финансовым управлением провинций.
[11] Галлы (с лат. - «gallus», «петух») — племена кельтской группы, жившие на территории Галлии (нынешней Франции, Бельгии, части Швейцарии, Германии и Северной Италии) с начала V века до Р. Х. до подчинения Галлии римлянами, а впоследствии — германцами (готами, бургундами и франками). Они говорили на одном из континентальных кельтских языков — галльском. Часть французских историографов считает галлов предками современных французов. В исторических источниках употребляется два термина — кельты (цельты) и галлы. Это вызвано различием в самоназвании «варварских племен», живших к северу от ведущих античных цивилизаций, и их римским названием. Впервые упоминание кельтских племен встречается у греческих авторов Гекатея Милетского и Геродота Галикарнасского, который обозначил их словом keltoi. Впоследствии это обозначение использовалось всеми греческими авторами вплоть до III века до Р. Х. как единственное наименование кельтов. В III веке до Р. Х. Иероним Кардийский впервые употребил слово galata (галаты), обозначая им кельтов, вторгнувшихся в Македонию, Грецию и Малую Азию (где они были поселены разбившим их царем Пергама на территории, названной Галатией). Так же кельты названы в эпитафии на могиле молодого афинянина Кидия, погибшего в битве с галатами под Дельфами в 279 году до Р. Х.], и во «Всеобщей истории» эллина Полибия. С этого момента в греческих источниках термины keltoi и galata употребляются как равнозначные. Историк Диодор Сицилийский называл кельтов keltoi, а племена, жившие за Реном-Рейном, — galata (галаты). Он считал, что латинские названия galli (галлы) и galatае (галаты) относятся к одному и тому же народу (по латыни сеltае), и что название keltoi является более правильным. Гай Юлий Цезарь и Павсаний считали, что keltoi — это самоназвание кельтов. Подвергшихся со времен Цезаря романизации галлов часто называют галлоримлянами (хотя сами они себя так не называли).
[12] Лимес (лат.— «дорога», «граничная тропа», позже просто «граница») или Limes imperii Romani — Граница Римской империи — укрепленный рубеж (вал, стена) со сторожевыми башнями, возведенный на границе Римской империи. Лимес служил Римской империи защитным сооружением и средством таможенного контроля. На проходных пунктах лимеса велась торговля с «внешним (варварским) миром». Провинции, прилегавшие к лимесy, назывались лимитрофами и охранялись пограничными войсками — лимитанами. Самые известные участки лимеса — Верхнегерманско-ретийский лимес протяженностью в пятьсот пятьдесят километров, Вал Адриана и Вал Антонина в Великобритании.
[13] Эрехфей, или Эрехтей — в древнегреческой мифологии царь города Афины, сын Пандиона и Зевксиппы, брат Бута, Прокны и Филомелы.
[14] Проб (Пров) Марк Аврелий (годы жизни: 232-282) — римский император (годы правления: 276-282) иллирийского происхождения. Прославился как полководец при императорах Валериане, Клавдии II Готском, Аврелиане и Таците, после смерти которого был провозглашен своими милитами императором. Правил в согласии с сенатом. Упрочил власть Рима в Галлии и по всей ренской границе, оттеснив в 277 году вторгнувшихся в Галлию франков, алеманнов и другие племена германцев; удачно воевал в Африке с блеммиями и маврами. Его суровые меры по укреплению дисциплины в армии вызвали восстание солдат, в ходе которого Проб был убит.
[15] Гай (Кай) Лел (л)ий Мудрый, или Сапиенс (годы жизни: 188-128/125 до Р. Х.) — древнеримский политический деятель, военачальник и интеллектуал. С юных лет он был ближайшим другом полководца, политика м филэллина Публия Корнелия Сципиона Эмилиана и членом так называемого «кружка Сципиона». В своем трактате «Лелий, или о дружбе», Цицерон вложил в уста Гая Лелия следующие слова о его дружбе со Сципионом, ставшей для римлян поистине хрестоматийной: «Нет такого сокровища, которое я мог бы сравнить с дружбой Сципиона. В ней я нашел согласие в делах государственных, в ней — советы насчет личных дел, в ней же — отдохновение, преисполненное радости. Ни разу я не обидел его, насколько я знаю, даже каким-нибудь пустяком, и сам никогда не услыхал от него ничего неприятного. У нас был один дом, одна пища за одним и тем же столом. Не только походы, но и путешествия, и жизнь в деревне были у нас общими. Нужно ли говорить о наших неизменных стараниях всегда что-нибудь познавать и изучать, когда мы, вдалеке от взоров народа, тратили на это свои досуги?»
[16] В легионе баллистариев насчитывалось до двадцати пяти боевых мобильных метательных установок — (карро)баллист), и не менее девятисот семидесяти пяти человек личного состава: двести семьдесят пять собственно баллистариев; пятьсот воинов пехотной когорты, прикрывавшей позиции баллист, еще двести — командиры, тыловики, инженеры, разведчики, саперы и т. д. Позднеримский автор трактата о военном искусстве Вегеций упоминает о том, что перед римскими боевыми порядками стояли воины с арбалетами. До нас дошел римский барельеф III–IV века, изображающий такого арбалетчика. После появления в позднеримской армии сильных частей конных и пеших лучников значение баллистариев упало.
[17] Названия Верхнему и Нижнему озеру, входящим в Боденское озеро, были даны еще во времена Римской империи. Нижнее озеро было названо античными авторами Акронийским озером (Lacus Acronius), а Верхнему озеру римляне сначала дали имя Lacus Brigantinus (Бригантское озеро), затем Lacus Venetus (Венетское озеро) и наконец Lacus Constantinus (Константиново озеро).
[18] Римляне, владевшие этой областью до IV века п. Р. Х., называли ее «Пограничным лесом» (Marciana Silva), ибо по ней проходила граница между Римской империей и германским племенем маркоманнов («пограничных мужей», «мужей границы»). Впоследствии эти земли завоевали алеманны и свевы, предки современных швабов.
[19] Препозит священной опочивальни (лат. praepositus sacri cubiculi), в русской литературе иногда также «препозит священной спальни», «начальник священной спальни», «обер-камергер» — в поздней Римской империи чиновник, заведовавший личными покоями императора, как правило, евнух. Ему подчинялся примицерий (примикирий) священной опочивальни (primicerius sacri cubiculi), непосредственно руководивший евнухами (cubicularii — постельничие) и другими слугами, обслуживающими императора, castrensis (эконом дворца), комит священных одежд (comes sacrae vestis) и другие придворные служители.
[20]Квадрига — богато украшенная триумфальная колесница, запряженная четверкой белых лошадей. В эпохy Римской республики и принципата триумфаторы ехали в квадриге стоя, в эпохy домината — сидя.
[21] Греческий Гадес (Аид), аналог римского Плутона — бог подземного царства, владыка мертвых, супруг Персефоны-Прозерпины, брат Зевса-Юпитера, «Зевс Преисподней».
[22] Иные авторы проводят различие междy катафрактариями (покрытыми, как и их лошади, чешуйчатыми или кольчатыми доспехами) и клибанариями (покрытыми, как и их лошади, пластинчатой броней), хотя Аммиан пишет, что клибанарии были облачены в броню из мелких металлических колец и опоясаны железными полосами. Считается, что римляне заимствовали панцирную конницy y восточных «варваров» — персов, армян и сарматов-аланов. По мнению некоторых авторов, клибанарии в составе римских войск на территории Галлии были поселенными там в качестве военных колонистов-«федератов» сарматами или происходили от них.
[23] Бельги (белги) — галльские племена частично кельтского, частично — германского происхождения, покоренные Гаем Юлием Цезарем (считавшим белгов «храбрейшими из всех» галлов) в ходе завоевания им Галлии в I веке до Р.Х.
[24] Впрочем, судя по дошедшим до нас изображениям, отнюдь не все воины армии «Вечного» Рима эпохи Юлиана Философа брили бородy (возможно, ношение или не ношение милитами «мировой» империи усов и бороды зависело от их национального происхождения).
[25] Псалтирь, Глава 95, стих 5.
[26] Римляне именовали Дунай в его верхнем течении Двнувием, или Данубом, в нижнем течении — Гистером (Истром).
[27] Брандер: 1)корабль, нагруженный горючими материалами и предназначенный для поджога неприятельского флота; 2)зажигательный метательный снаряд (преимущественно — сосуд, наполненный нефтью).
[28] В тогдашней Римской империи имелось несколько населенных пунктов под названием Бонония.
[29] Диоцеза, или диэцеза (dioecēsis, от греч. διοίκησις, «администрация») — административная единица Римской империи, включавшая в себя несколько провинций. Система из двенадцати диоцезов была создана при императоре Иовии Диоклетиане (в 284—305 годах). К моменту раздела Римской империи на Западную и Восточную в 395 году число диоцезов достигло пятнадцати.
Часть I.
Часть II.
Часть III.







Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.